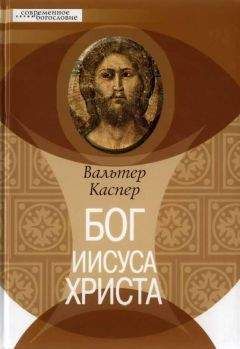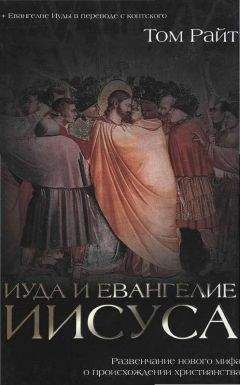Ознакомительная версия.
Церковь изначально понимала евхаристию, совершаемую каждое воскресенье в память о воскресении Иисуса, а потом и ежедневно, как таинственную реальность, а не просто мемориальный обряд. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» – риторически спрашивает учеников апостол Павел, напоминая: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор 10:16–17). Спустя почти столетие ему вторит Юстин Философ: «Ибо мы принимаем это, не так как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье: но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта над которой совершено благодарение чрез молитву слова Его, и от которой чрез уподобление получает питание ваша кровь и плоть, есть – как мы научены – плоть и кровь того воплотившегося Иисуса» (1 Апол 66).
Став главным христианским богослужением, евхаристия, тем не менее, никогда не включалась в суточный молитвенный круг как находящаяся вне времени, являющая реальность будущего века. Совершая ее, согласно заповеди, в воспоминание Христа, церковь, как это ни странно звучит, делает объектом этого воспоминания не только прошлое, но и настоящее, и будущее, говоря о нем как о свершенном: «Ныне, воспоминая эту спасительную заповедь и все, ради нас соделанное: распятие, погребение, воскресение на третий день, на небеса восхождение, сидение справа от Отца и новое во славе пришествие…» (литургия Иоанна Златоуста).
Печальным и трагическим парадоксом является то, что именно вокруг этого таинства христианского единения концентрируются самые серьезные не преодоленные разногласия между христианскими конфессиями, касаясь его богословского осмысления, а зачастую и формы. Трепетно относясь к евхаристии как величайшей христианской святыне, христиане настороженно относятся ко всему, что может исказить ее суть.
Из понимания евхаристии как таинства единения верующих со Христом и в Нем друг с другом следует недостаточность, половинчатость стремления к частому причащению отдельных христиан, а не всего прихода. Евхаристическое возрождение предполагает активное участие в таинстве (не только причащение, но, в первую очередь, осознанное «сослужение» своей мирянской молитвой) всех прихожан, превращающее их из «присутствующих на богослужении» в активных его участников. Этот процесс неуклонно ширится на протяжении последних десятилетий.
Выше говорилось о том, что каждое из таинств церкви получает свое завершение в евхаристии. А чем, в таком случае, завершается сама евхаристия, что служит свидетельством ее исполнения? Ответ содержится в словах, звучащих в конце православной литургии: «С миром выйдем – в имени Господнем» (подобными по смыслу формулировками заканчивается евхаристическое богослужение и в других конфессиях). Исполнением таинства оказывается сама христианская жизнь, не ограниченная рамками богослужения. Круг церковных таинств приводит нас к исходной точке – к церкви как таинству Богочеловечества, в исполнении не просто наивысшей заповеди ветхозаветного закона «Возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем разумением и всей крепостью и ближнего твоего как самого себя», но заповеди новой, осуществимой только в Христовой благодати, сообщаемой в евхаристии, Его, а не нашими силами: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:12–13).
Мы привыкли назвать Евангелиями четыре книги, содержащие жизнеописание Иисуса Христа. В древности значение этого слова было другим: евангелием (благой вестью) называлась собственно проповедь христианского учения, которое в те времена делало особенное ударение на два момента: во-первых, Христос умер, чтобы искупить наши грехи, во-вторых, Христос воскрес, чтобы победить смерть. Жизнеописания Иисуса Христа должны были иллюстрировать эти две максимы, в которых для древних и заключалось евангелие, в переводе с греческого – благая весть.
Почему же смерть Иисуса за грехи людей и Его воскресение из мертвых воспринималась древними как «благая весть»? Для этого нужно сосредоточиться на понятии, которое непопулярно в наши дни – понятии греха.
Слово «грех» синонимично понятиям «порок», «плохой поступок», даже «преступление», но не тождественно им. Грех может проявляться в плохом поступке, а может и не проявляться, как бывает, например, с завистью или ненавистью. Грех может быть одновременно и преступлением, как воровство или убийство, но грехов, которые не подпадают под понятие преступления, все-таки больше. Грех может быть сопряжен с определенным пороком – пьянством или наркоманией, – но и увлечение вещами, здоровыми, полезными может быть греховным. Грех может сопутствовать некоторым эмоциональным состояниям – хотя, пожалуй, нет эмоциональных состояний, греховных по определению. Грехи неравнозначны по тяжести: нарушить слово – не то же самое, что украсть, украсть – не то же самое, что убить. Понятие греха может варьироваться от культуры к культуре в пространстве и во времени – современную одежду предки сочли бы греховной; древнегреческая женщина Ниоба похвалялась тем, что у нее есть семеро прекрасных сыновей и семь дочерей. С нашей точки зрения здесь нет ничего плохого, по крайней мере, ничего достойного смертной казни, но греческие боги рассудили иначе: Аполлон и Артемида перебили детей Ниобы по приказу своей матери, богини Латоны. С точки зрения древних греков, Ниоба сильно согрешила, хвастаясь, что у нее четырнадцать детей, в то время как у богини было только двое. Японские боги-перволюди Идзанами и Идзанаки решили сочетаться браком и, обойдя вокруг столпа, поприветствовали друг друга. Женщина произнесла приветствие первой, и небесные боги решили, что это грех, почему – миф не объясняет, но перволюди были за него наказаны: их дети рождались уродцами.
Словом, понятие греха очень трудноопределимо и в то же время реально, потому что каждый из нас переживал опыт осознания собственной греховности, называемый иначе муками совести. Нет, пожалуй, народа, который был бы не знаком с понятием греха – и в то же время нет народа, который не слагал бы легенд о «золотом веке», когда безгрешные люди жили, не зная горя.
Понятие греха предшествовало понятию преступления. С давних времен люди интуитивно ощущали, что убийство, воровство, нарушение обязательств, сексуальная невоздержанность не только причиняют людям горе и боль, но и нарушают какой-то высший, не людьми установленный порядок. За грех наказывали боги, даже еще когда людям были неведомы законы. Нередко боги наказывали за вину одного человека целую общину или народ. Чтобы отвести от людей беду, виновный должен был умереть. Ну а если его вина слишком велика и одной смерти мало? Или напротив – вина не так уж велика, а людьми разбрасываться нельзя? Тогда древние приносили искупительную жертву: вместо человека убивали животное, его кровью человека кропили – и он считался очищенным от греха. Такая жертва отличалась от благодарственных или просительных жертв богам: мясо животного не сжигали на алтаре, а хоронили в тайном месте.
В эпоху до появления закона отвести гнев богов считалось достаточным, но с появлением закона избавление от гнева богов не означало избавления от наказания людьми. Древние с самого начала различали грех и преступление: одно дело нарушить закон людей, другое – нарушить закон богов.
Иногда законы людей и законы богов вступали в противоречие. Древнегреческий драматург Софокл написал пьесу «Антигона»: семеро братьев, оспаривая отцовское наследство, вступили в войну и перебили друг друга. Правитель города Фивы, Креонт, запретил хоронить их под страхом смерти. Но оставлять человека без погребения – грех, и ночью сестра умерших, Антигона, пришла присыпать тела землей и принести богам жертвы. Ее схватила стража. «Как ты посмела нарушить мой закон?» – спрашивает Креонт. «Богам нужно повиноваться в первую очередь, людям – во вторую», – отвечает Антигона. Благочестивую девушку правитель велел похоронить заживо, но жители города понимали: правда за ней, а не за ним.
Впоследствии, в эпоху Возрождения, а особенно Просвещения, сама античность начала играть в сознании людей роль «золотого века», когда люди были свободны от догм, руководствовались в своих действиях соображениями разума, а не веры, и если даже были греховны, то по крайней мере не мучились этим.
Современные исследования античности легко развенчивают этот миф. Мировоззрение античных язычников – и греков, и римлян – было довольно мрачным. Поэт Гомер на состязании с Гесиодом произнес стих о том, что человеку лучше всего вообще не рождаться на свет, а если уж родился, то поскорее умереть. Гесиод не нашел, что возразить, и задал следующий вопрос: если так, то можно ли чем-то насладиться на этом свете? Слушать песни на пирах, пить и веселиться, – ответил Гомер. А о чем молить богов? – спросил Гесиод. О сильном теле и бодром духе, в этом счастье, – ответил Гомер. А что зовется счастьем? Жизнь без невзгод, услады без боли и смерть без страданий.
Ознакомительная версия.