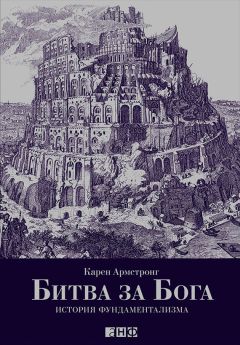Ознакомительная версия.
Процесс этот требовал и социальных изменений, вовлекая в модернизацию все большее количество участников на самом скромном уровне. Самые обычные люди становились печатниками, станочниками, фабричными рабочими, и им тоже приходилось в той или иной степени усваивать современные стандарты производительности. От все большего количества людей требовались хотя бы начатки образования. Рабочие учились грамоте, а научившись, неизбежно стремились к большему участию в общественных делах. Назревала потребность в более демократичной форме правления. Поскольку модернизация и увеличение производительности труда требовали участия всех человеческих ресурсов, постольку прежде отвергаемые и сегрегированные группы – например, иудеев – тоже включали в процесс. Образованные по требованиям нового времени наемные работники уже не подчинялись прежним иерархиям. Идеалы демократии, толерантности, всеобщих прав человека, ставшие священными ценностями в светской западной культуре, появились в результате многогранного процесса модернизации. Это был не просто плод мечтаний государственных деятелей и политологов; по крайней мере отчасти эти идеалы были продиктованы нуждами современного государства. В Европе начала Нового времени социальные, политические, экономические и духовные перемены были взаимосвязаны, один процесс обусловливал другие[134]. Наиболее эффективным и продуктивным способом организации модернизированного общества оказалась демократия – как продемонстрировали на своем отрицательном примере восточноевропейские страны, которые, не приняв демократические нормы и вовлекая бывшие меньшинства в общий процесс насильственными, драконовскими методами, начали отставать в развитии[135].
Бок о бок с ошеломляющими открытиями шли мучительные политические перемены, и люди искали поддержки в религии. Прежние средневековые догмы больше не несли утешения, поскольку теряли смысл в изменившихся обстоятельствах. Религия тоже требовала модернизации и рационализации, подобно Реформации католицизма в XVI в. Однако религиозные реформы раннего Нового времени показывали, что, несмотря на идущую полным ходом в XVI столетии модернизацию, европейцы по-прежнему проникнуты традиционным духом. Деятельность реформаторов-протестантов, как и уже проанализированные нами усилия мусульманских реформаторов, в эту эпоху перемен была обращена в прошлое. Мартин Лютер (1483–1546), Жан Кальвин (1509–1564) и Ульрих Цвингли (1484–1531) обращались ad fontes, к истокам христианства. Точно так же, как ибн Таймия отвергал средневековую теологию и фикх, ища чистый ислам в Коране и Сунне, Мартин Лютер выступал против средневековых схоластов и пытался вернуться к аутентичному христианству Библии и отцов Церкви. Как и консервативные реформаторы-мусульмане, реформаторы-протестанты были одновременно реакционерами и революционерами. Они не принадлежали к новому, зарождающемуся миру и были укоренены в старом.
Однако и они тоже были людьми своей эпохи, эпохи перемен. Как будет видно на протяжении всей книги, модернизация нередко сопряжена с большими волнениями. Мир вокруг меняется, вызывая растерянность и дезориентацию. Наблюдая ситуацию изнутри, люди не могут отследить, в каком направлении развивается общество, однако отдельные разрозненные аспекты медленного преобразования непременно их коснутся. Когда старая мифология, служившая опорой и смыслом жизни, вдруг начинает рушиться под влиянием перемен, люди переживают болезненную утрату своего «Я» и впадают в отчаяние. Как мы еще увидим, самые распространенные ощущения, которыми сопровождаются перемены, – беспомощность и боязнь истребления, которые в экстремальных случаях могут вылиться в агрессию. Примерно так происходило с Лютером. В молодости его преследовали мучительные депрессии. Средневековым обрядам и религиозным действиям не удавалось прогнать то, что он называл tristitia (тоска), ужас перед смертью, которую он представлял как исчезновение с лица земли без остатка. Когда наваливалась эта черная тоска, Лютер не мог заставить себя читать Псалом 90, где подчеркивается бренность человеческой жизни и описывается гнев и ярость, которые Господь обрушивает на людей. До самой старости Лютер считал смерть порождением господнего гнева. Его доктрина оправдания верой изображала человека абсолютно не способным позаботиться о собственном спасении и полностью зависящим от божьей милости. Только осознав свою беспомощность, он сможет спастись. Чтобы как-то бороться с депрессиями, Лютер развил кипучую деятельность, задавшись целью принести как можно больше блага миру, но в то же время его обуревала ненависть[136]. Гнев Лютера на папу, турок, евреев, женщин, бунтующих крестьян – не говоря уже о его богословских оппонентах – вполне типичен и для реформаторов наших дней, мучающихся от неприятия нового мира и разрабатывающих религиозную доктрину, в которой любовь к Господу зачастую соседствует с ненавистью к себе подобным.
Цвингли и Кальвину тоже пришлось пережить отчаянное бессилие, прежде чем прийти к новому религиозному видению, которое помогло им возродиться. Они тоже были убеждены, что ничем не могут способствовать своему спасению и бессильны перед жизненными испытаниями. Оба (как и многие современные фундаменталисты) подчеркивали всевластие Господа[137]. Как и Лютер, Цвингли и Кальвин тоже перекраивали религиозное мировоззрение, иногда прибегая к крайним мерам и даже к насилию, заставляя свои доктрины заявить о себе в условиях нового мира, который неявно, но неудержимо тянулся к радикальным переменам.
Как представители своей эпохи, реформаторы отражали происходящие перемены. Их отмежевание от Римско-католической церкви стало самой первой декларацией независимости, которых с этого момента в истории Запада будет предостаточно. Как мы увидим, новый этос требовал автономии и полной свободы, и именно этого добивались в условиях изменившегося мира протестантские реформаторы для христиан – свободы читать и толковать Библию по своему усмотрению, без указующего (и карающего) перста Церкви. При этом все трое отличались крайней непримиримостью к тем, кто выступал против их учения: Лютер призывал сжигать «еретические» книги, а Кальвин и Цвингли считали приемлемым убийство инакомыслящих. Все три доктрины демонстрировали, что прежнее, символическое понимание религии в этот век рационализма начинает рушиться. В традиционной духовности символ был частью божественного, люди находили святость в земном, соответственно, символ и сакральное были неразделимы. В эпоху Средневековья христиане видели божественное в мощах святых, а хлеб и вино для причастия мистически идентифицировали с Христом. Реформаторы же объявили поклонение мощам идолопоклонничеством, а причастие «лишь символом», и литургия из культового воспроизведения Крестного Пути превратилась в простой ритуал «напоминания». Реформаторы начали рассматривать религиозные мифы с точки зрения логоса, и, судя по тому, сколько у них нашлось сторонников, отказ от мифологического восприятия шел среди европейских христиан полным ходом.
По мере медленной, но верной секуляризации Европы протестантская Реформация, несмотря на свою сильнейшую религиозную подоплеку, тоже обретала светские черты. Реформаторы утверждали, что возвращаются к первоначальному источнику, к Библии, однако читали они ее уже в духе эпохи модерна. Новый христианин должен был общаться с Богом один на один, опираясь только на собственную Библию, которая появилась у него в личном пользовании в связи с развитием книгопечатания и которую он смог прочитать благодаря распространению грамоты. Священное Писание все больше трактовалось буквально, как источник неких сведений, по аналогии с остальными текстами, которые учились читать протестанты-модернизаторы. Это самостоятельное чтение способствовало освобождению христиан от традиционных толкований и от указки религиозных наставников. Упор на индивидуальную веру субъективизировал истину, приводя к появлению еще одной характерной черты современного западного менталитета. Однако, провозглашая важность веры, Лютер одновременно яростно отрицал разум. Он словно чувствовал, что в дальнейшем разум станет непримиримым врагом веры. В его трудах (у Кальвина этого нет) отчетливо видно, что прежнее представление о взаимодополняемости разума и мифа постепенно сходит на нет. Лютер с привычной яростью поносил Аристотеля и Эразма Роттердамского, считая их труды квинтэссенцией разума, которым, вне всякого сомнения, была вымощена дорога к атеизму. Выталкивая разум из религиозной сферы, Лютер одним из первых среди европейцев способствовал его секуляризации[138].
Поскольку в глазах Лютера Бог был абсолютно таинственным и неведомым, в мире физическом ничего божественного быть не могло. Присутствие лютеровского Deus Absconditus не обнаруживалось ни в общественных институтах, ни в материальной действительности. Для средневековых христиан источником священного служила церковь, объявленная Лютером вертепом Антихриста. Познать Бога путем наблюдения за восхитительным устройством Вселенной по примеру схоластов (также яростно раскритикованных Лютером) тоже не дозволялось[139]. В трудах Лютера Бог начал исчезать из материального мира, не имеющего теперь никакой религиозной значимости. Кроме того, Лютер секуляризировал политику. Поскольку мирское резко противопоставлено духовному, церковь и государство должны существовать независимо, не вторгаясь в чужую область[140]. Вот так благодаря своей истовой религиозности Лютер и стал одним из первых европейцев, ратующих за отделение церкви от государства. В очередной раз секуляризация политики началась с поисков новых путей религии.
Ознакомительная версия.