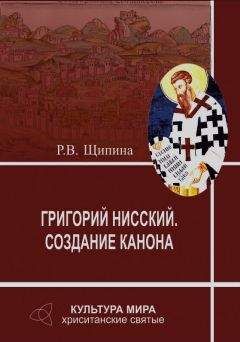Ознакомительная версия.
Это, казалось бы, естественное движение мысли, не столь общедоступно и требует пояснения. Кондаков, определяя предмет и соответствующий ему метод исследования, говорит о «научной постановке исторического хода иконографии», но именно это научное построение зиждется на чутком внимании к тому, что он называет «религиозным чувством». Это вдохновенное и «тонкостное» чувство любви, увы, предано забвению в современных сочинениях по иконографии. Приведем характерный пример: «Икона являет не лицо земного человека, а лик небожителя. Иконография не игнорирует индивидуальные особенности и внешние отличительные признаки святого (пол, возраст, прическа, форма бороды, головной убор и т.д.), но святой предстает преображенным, отрешенным от земных страстей, он уже принадлежит иному миру и оттуда взирает на нас, поэтому в иконе исключено изображение душевных эмоций, аффектов. Лик это самое главное в личности святого. Но к «личному» относятся не только лик, но и руки. Отсюда большое значение в иконе имеет жест: благословляющий или молитвенный, воздетые к небу или прижатые к груди руки, поднесенная к уху рука слушающего Бога и т.д.» [296] Схема, обозначенная в этом фрагменте текста, заимствуется из иконописных подлинников, обозначающих «пол, возраст, прическу, форму бороды». Подлинники возникают поздно, когда возникает опасность угасания живого иконописного канона, бытуют они в ремесленной среде. [297] Их распространение вызвано стремлением сохранить догматические основы традиции после падения Византии в 1453 г. и перед лицом западного влияния. С XV века возникают и ремесленные поселения иконописцев, существенно отличающиеся от монастырских центров. Соответственно, меняется и характер творчества. В XVI веке все возрастает роль образца, «приводя стиль отдельных икон и росписей… к прямому копированию более древних произведений, к определенной сухости и застылости художественного языка». [298]
Получается, что отправной точкой в воссоздании истории иконы современные авторы избирают момент окостенения канона. Подобный неверный ход мысли предупрежден Кондаковым. Он пишет: «Такое ограничение христианской иконографии… грешит и против принципиального понимания существа иконы, приравнивая ее отчасти к «идолу», вовсе устраняя в ней или до крайности ограничивая художественную стихию, следовательно, оправдывая доктрину протестантства, враждебно относящуюся к иконе. Между тем, именно этою стороною доктрины обнаруживается наиболее ея мертвенность, безжизненный схематизм, забывающий из-за буквенного понимания догмы, религиозную жизнь народа. …Реально-историческая основа иконы-портрета или подобия чтимаго святаго допускает все возможные степени жизненного представления, лишь бы в образе выражалось или им вызывалось религиозное чувство. …Икона.... помимо характера и типа, в ней изображенного, приобретает постепенно, вместе с ходом христианского искусства… особую черту, проводимую на ней тем самым отношением к ней молебщика, по которому она становится «моленной» иконой… как бы воспринимает в себя личное чувство молящегося и отвечает в произведениях художественной кисти различным его настроениям, становясь «образом благочестия» и христианской любви» [299] .
Речь о любви как неотъемлемой главенствующей части образа сказана епископом Нисским: «Бог также любовь и источник любви. Ибо как говорит великий Иоанн: Любовь от Бога есть и Бог любовь есть (1. Ин. 4, 7-8); это же сделал и нашим лицом Зиждитель природы… Следовательно, без нее переменяются все черты образа». [300]
Ему вторит Василий Великий: «…вместе с устроением живого существа, я имею в виду человека, вложенное в нас некоторое прирожденное стремление (точнее: семенной логос), в себе самом побуждающее к общению с любовью Божиею…получив заповедь любить Бога, приобрели мы также и силу любить, вложенную в нас при первоначальном нашем устройстве. Доказательство этому лежит не во вне, но каждый может узнать это сам собою и сам в себе. Ибо от природы в нас есть вожделение прекрасного… Что же досточуднее Божией красоты? …люди по природе желают прекрасного; в собственном же смысле прекрасно и достолюбезно благое; а благо – Бог. К благому же все стремится; следовательно, все стремится к Богу». [301]
На наш взгляд, Кондаков уловил и поставил в центр своей науки об образе идею, зародившуюся давно, у «великих каппадокийцев»: «Образ не есть субстанциональное качество, что-то заложенное и уже готовое в душевном складе человека. Это есть как раз задача, необходимость раскрыть в себе свое творческое начало» [302] , – так пересказал Василия Великого архимандрит Киприан (Керн) в «Антропологии св. Григория Паламы». Он же и заключает: «Вот и основание для постройки подлинно христианской эстетики». [303]
Богословие Григория Нисского и, в целом, «великих каппадокийцев» раскрывает особенность символического реализма в христианском искусстве, выявляя не только двойственность природы человека, тварного, но созданного по образу и подобию Божию, но и указывает на беспредельность восхождения образа к Первообразу. «Наша жизнь двояка; одна свойственна плоти, скоропреходящая, а другая сродна душе, не допускает предела», – говорит Василий Великий. [304] Образ в символическом реализме также двояк: он констатирует реальность в портретном изображении человека, но является динамическим символом, влекущим образ к Первообразу, как литургический символ он служит преображению человека.
Проблема литургического символа в символическом реализме, – одна из актуальных тем в публикациях последних лет. Наиболее близкими к нашей теме являются монография С.Г.Савиной [305] , О.Е. Этингоф [306] , сборник статей «Восточнохристианский храм. Литургия и искусство», в котором особо следует выделить публикацию Т. Мэтьюза «Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе». [307] Общая концепция этих трудов выстроена на основе сопоставления образов христианского искусства не столько с отдельными богослужебными текстами, сколько с литургическим контекстом в целом. Упомянутая публикация Мэтьюза хороша выводом. Рассуждая о Евхаристии, автор говорит: «Это мистическое преображение христианина в более высокое и совершенное существо во Христе есть действие, которое связано с образом Христа в куполе. Христос в куполе – это целое, совершенное существо, которым взирающий на Него становится в причастии» [308] .
Общие контуры проблемы влияния каппадокийского богословия на становление иконописного канона могут быть расширены при памятовании о том, что на становление литургического символа воздействует порядок богослужения. Чинопоследование литургии принадлежит перу Василия Великого, начальный этап формирования обряда Византийской Церкви связан с деятельностью Григория Богослова. Каппадокийцы приблизились к апофатическому определению непознаваемости ноумена человека: «Кто я был?.. Кто я теперь? И чем я буду? – вопрошает Григорий Богослов, – Ни я не знаю этого, ни тот, кто обильнее меня мудростью…Я существую. Скажи: что это значит? Иная часть меня самого уже прошла, иное я теперь, а иным я буду, если только буду. Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, которая непрестанно притекает и ни на минуту не стоит на месте. Чем из этого назовешь меня? Что наиболее, по-твоему, составляет мое «я»? Объясни мне это, но смотри, чтобы теперь этот самый «я», который стою перед тобою, не ушел от тебя. Никогда не перейдешь в другой раз по тому же течению реки, по которому переходил ты прежде. Никогда не увидишь человека таким же, каким ты его видел прежде. Сперва заключался я в теле отца; потом приняла меня мать, но как нечто общее обоим; потом я стал какая-то сомнительная плоть, что-то непохожее на человека, срамное, не имеющее вида, не обладающее ни словом, ни разумом, и матерняя утроба служила мне гробом. И вот мы от гроба живем для тления» [309] . О предельной непознаваемости человека говорит Нисский святитель: «Узнал я разрешение недоумений, прибегнув к тому же Божию гласу: ведь сотворим, говорит, человека по образу и подобию Нашему (Быт. 1, 26). Ведь образ лишь до тех пор по-настоящему есть образ, пока не лишен ничего из известного в первообразе. Но в том, что отпадает от подобия прототипу, на ту часть он уже не образ. Следовательно, поскольку в том, что созерцается у божественной природы, есть неприступность сущности, совершенно необходимо, чтобы и в образе ее было подражание первообразу. Ведь если бы природа образа постигалась, а первообраза – была бы выше постижения, то такая противоположность созерцаемого в них обличала бы погрешительность образа. Но поскольку природа нашего ума ускользает от познания, и это по образу Создавшего, то значит, она точное подобие превосходящему, своей собственной неведомостью являя отличительную черту неприступной природы». [310]
Поскольку трактат «Об устроении человека» – экзегетическое произведение александрийской традиции, то уместно указать на то, что оно связует дохристианскую эллинскую и иудейскую экзегезу с богословием образа православной Церкви. Как особенность восточнохристианского символизма следует выделить его мистический аспект (в составе символического реализма) в противоположность аллегорическому методу, восходящему к Эвгемеру, получившему распространение на Западе [311] .
Ознакомительная версия.