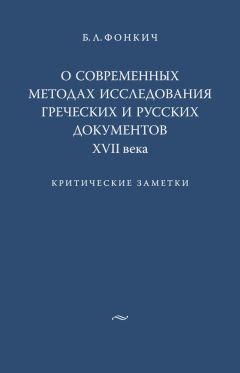Ознакомительная версия.
Но как солнце рассеивает туман, так и лучи Аполлона в VIII–VI веках разрушают в человеческом сознании всякую мысль о совместимости понятий «божество» и «ложь». "Лжи не дозволено касаться тебя", — говорит пророк Аполлона Пиндар о своем боге, причем он под «ложью» разумеет не только субъективное, но и объективное отклонение от истины. «Истина» и «свет» — это как бы соответствующие друг другу понятия; Аполлон властвует и здесь, и там, а за ним и прочие боги. И в этой области успешно трудилась просветительница Эллады в VI в., пифагорейская школа; самому учителю приписывается знаменательный ответ на вопрос: "Когда человек более всего уподобляется богу?" — "Когда он говорит правду".
Атак как гомеровские поэмы все-таки оставались на поверхности, и вместе с ними и игривые представления о легком отношении богов к истине могли проникнуть в сознание людей, то Платон в своем «Государстве» настаивает на их недопустимости. Нет, бог несовместим с ложью. Он не может ошибаться, ибо он знает все; он не может облекать свои слова в ризу лжи или своего образа в ризу притворства, ибо он весь истина и только истина. И если Пан представляется двуобразным, то это имеет символический смысл — Пан есть слово (logos). А слово двуобразно, будучи правдивым и лживым, пребывая своим правдивым естеством в горних, в общении с богами, а своим лживым — в нижней сфере, где только и место «козлиной» природе… В подлиннике игра слов: «козлиный» гласит по-гречески «трагический», и выбором этого термина Платон намекает, на мифологию, исказившую представление о богах.
Да, бог есть истина, он и знает, и вещает ее. В боге истина, и в истине бог.
Мы должны основательно внедрить в себя это убеждение, вполне согласное, конечно, с учением всякой религии высшего порядка. Мы должны слить с ним и другое убеждение, тоже вполне естественное для нас, христиан — что бог любит человеческий род и заботится о нем. Тогда мы, быть может, поймем — не возникновение, но упорное, даже в умах самых просвещенных людей, пребывание того красивого пустоцвета греческой религии, которому имя мантика, или ведовство.
§ 36
Не возникновение, сказал я. Действительно, мантика как таковая древнее обоих убеждений, позднее служивших ей опорой. В своих примитивных формах она даже мало связана с религией. Вспомним разнообразную систему примет: запрыгала жилка в правом виске — "к чему" это? Задел ногой за порог, уходя, змея переползла через дорогу, кто-то чихнул и т. д. Тут, с одной стороны, наивная эмпирия, замеченная повторяемость следующих за данными приметами явлений; с другой стороны, кажущаяся аналогия так называемой прогностики важной для жизни в природе: ласточки высоко летают — это к вёдру. Неразвитая наука не дает еще возможности различать между совпадением таких явлений, связь которых только загадочна, и таких, где она невозможна; все одинаково растворяются в общем тумане таинственно тяготеющих друг к другу частиц природы и жизни.
В нашу эпоху просвещенные люди отдавали себе уже отчет в том, что эта мантика Примет принадлежит к области суеверия; Феофраст в своей характеристике «суеверного» (deisidaim6n) уделяет ей должное внимание. Другое дело — мантика религиозная. Конечно, при желании можно было и мантику примет туда же подвести: мало ли какими средствами может пользоваться любящий бог, чтобы предостеречь нас от пагубного решения. Понятно, что граница тут очень зыбкая, и если кому угодно было, насилуя здравый смысл, обращать внимание на все бесчисленные приметы и этим превращать свою жизнь в ад — его воля. Но разумного человека выручал именно его здравый смысл.
Оставляя в стороне и мантику примет, и отличную от нее, но столь же низменную мантику всякого рода ворожбы, — по решету, по муке, по клеву куриц и т. д. — обратимся к той, связь которой с религией была очевидна и всеми сознавалась. Она распадалась на мантику «атехническую», или вещание, и мантику «энтехническую», или гадание. В первом случае бог непосредственно обращается к человеку, во втором он посылает ему знаки, нуждающиеся в истолковании через опытного гадателя. Конечно, четкой границы и здесь быть не могло; самая известная в древности и поныне мантика вещих снов занимала среднее место, так как сны иногда были символические и нуждались в гадателе для их истолкования.
С них мы и начнем. Если мы видели во сне умершего, то ясно, что именно его душа нас навестила, познавши тайны подземного мира, она стала вещей, и если она к нам дружелюбно настроена, то мы можем положиться на ее слова. Если мы видим живого, то это можно объяснить тем, что бог создал его призрак и прислал нам его как своего вестника, и тогда его слова тоже достоверны. Но возможно также, что само Сновидение приняло на себя его образ, и тогда дело осложняется. Дело в том, что Сновидения обитают там же, где и души, в преисподней: днем они, подобно летучим мышам, дремлют в пещере; ночью вылетают, иногда по поручению соседки-души, иногда и по собственному желанию, и являются спящим. Таков знаменитый Морфей, прозванный так потому, что берет охотно на себя «образы» людей. Во всяком случае, вполне полагаться на такие сны нельзя; конечно, как демоны, и Сновидения могут вещать истину — вопрос, однако, пожелают ли. Все зависит от того, через какие «врата» они вылетели: на беду их двое… и если мы прибавим: "одни — роговые, другие — из слоновой кости", то читатель должен будет перевести эти атрибуты по-гречески, чтобы понять, почему первые — достоверны, а вторые нет. А так как они нам не сообщают, через какие врата они к нам прилетели, то… Оттого-то Еврипид и рассказывает нам в шутливой песне, как Аполлон, чтобы прекратить неудобную конкуренцию, упросил Зевса отнять достоверность у снов.
Читатель, конечно, давно понял, что все сказанное — фантазия певцов, необязательная для веры. Вообще же мнение о вещем значении знаменательных снов было очень распространено, и нам сохранен «Сонник» Артемидора, обстоятельный, интересный и сравнительно серьезный. Даже философия считалась с этим мнением, объясняя вещий характер снов тем, что душа спящего, не будучи связана путами тела, обретает свое божественное естество. Но зато и наша утешительная пословица: "страшен сон, да милостив Бог" была известна древним: если человеку привиделся тревожный сон, он утром "рассказывал его Солнцу" (психологически тонкий акт), очищая себя его лучами, а затем молился Аполлону, чтобы он исполнил его лишь постольку, поскольку он благоприятен, а поскольку враждебен, обратил на врагов.
Вещий характер, приписываемый душам умерших, заставляет людей иногда обращаться к ним самим, т. е. вызывать их… Греция тоже знала своих аендорских ведьм. Только в благозаконных государствах их не терпели. Одержимые роковым любопытством должны были отправиться к некромантам в дикий Эпир или полудикую Аркадию. Читатель может прочесть у Геродота рассказы о том, как коринфский тиран Периандр вызывал душу убитой им жены Мелиссы, или спартанский царь Павсаний — душу тоже убитой им византийской девушки: они очень внушительны.
В чистой сфере витают боги. Входя в тесное общение с известными, возлюбленными ими людьми, они делают их пророками. Так, Гесиод в начале своей «Теогонии» рассказывает нам о том, как Музы, явившись ему на Геликоне, сообщили ему пророческий дар — и по справедливости этот рассказ беотийского певца был сравниваем со словами ветхозаветного Амоса о поставлении его во пророки. Таковы были Бакиды и Сивиллы — и при греческой свободе неудивительно, что появилось и немало юродивых обоего пола, находивших себе публику среди простонародия. Иногда благодать бога была наследственна — так мы слышим о пророческом роде Иамидов в Олимпии; иногда она простиралась на всех жителей определенного города, напр. Тельмисса. Правда, она могла состоять не столько в собственно пророческом даре, сколько в искусстве гадания по знакам, и в таком случае преемственность естественна.
Но бог мог сообщить вещую силу непосредственно не человеку, а месту — очень понятное последствие обожествления природы. Тут мы подходим к самому славному проявлению древнегреческой мантики — к оракулам, и прежде всего, разумеется, к "общему очагу всей Эллады", к оракулу в Дельфах. На склоне Парнасса, у подножия двух отвесных, голых скал, федриад, между которыми стекает Касталийский ручей — это место и поныне поражает странника своей величавой красотой. Здесь некогда возвышался посредине священной рощи храм Аполлона, окруженный целым лесом сокровищниц, статуй и прочих приношений всякого рода, живой музей не только греческой религии, но и греческой истории. Сюда в определенные дни — раз в месяц, а то и чаще — стекались паломники, желая вопросить бога. После жертвоприношения они, определив порядок жребием, предлагали богу свой вопрос, кто устно, кто письменно, не переступая порога храма. Священнослужитель передавал его жрецу, тот относил его во внутреннюю часть храма, в его святая святых (adyton). Здесь на треножнике сидела Дева-Пифия, впавшая в беспамятство, говорят, от испарений земли, поднимавшихся из-под треножника. Ее слова, часто бессвязные, подхватывали стоявшие тут же «пророки» и приводили их в порядок, который в торжественных случаях был стихотворным; это и был ответ бога.
Ознакомительная версия.