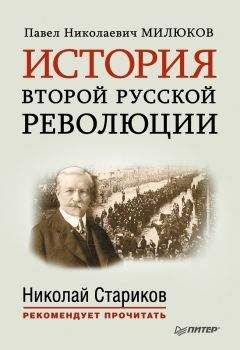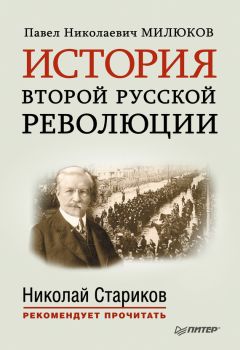Ознакомительная версия.
Таким образом, С. М. Волконский по сути раскритиковал существовавшее в России положение, при котором правом пропаганды («оказательства») веры пользовалась лишь Православная Церковь, остальные же конфессии империи имели возможность удовлетворять религиозные нужды только своих адептов. При желании какого-либо инославного или иноверного подданного принять православие проблем обычно не возникало. Совсем иное происходило в случае, когда кто-либо из православных решался изменить вероисповедание. Причем в случае установления факта «совращения» православного «совративший» мог привлекаться к уголовной ответственности. Как замечал С. М. Волконский, «насилие над другими имеет развращающее влияние на совесть того самого большинства, ради которого творится». По словам князя, это насилие «над нами самими».
Развивая эту мысль, С. М. Волконский приводил слова Петра Великого о том, что «совесть человеческая Единому Богу токмо принадлежит, и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуждать». Парадоксально, что авторитет Петра I, утвердившего неканонический строй управления Русской Церковью, использовался для критики существовавшей в России религиозной несвободы. Однако далее князь старался увязать в единую цепь два вопроса: о свободе совести и о неканоническом устройстве Русской Церкви.
Очевидно искреннее желание С. М. Волконского сформулировать главные вопросы церковно-государственных отношений. Но развести понятия «Церковь» и «государство» оказалось для него задачей исключительной сложности: традиции императорской России вставали на пути практического претворения благих пожеланий. Оставалось только заявлять: «Россия больна, и что хуже всего, – больна духом. Для оздоровления ее только одно средство – освобождение духа в делах веры от вмешательства не-духовной власти и возвращение Церкви утраченного авторитета»[209].
Разумеется, эту тему не могли обойти и представители ведомства православного исповедания, попавшие в положение оправдывающейся стороны. Так, В. М. Скворцов, много сделавший для открытия Религиозно-философских собраний, вынужден был напомнить князю, что полное невмешательство правительства в дела ограждения Православной Церкви от враждебных нападок невозможно, ведь народ считает позволительным все, что не запрещено: «Спаянность государственная и церковная слишком велика в православно-самодержавной России, – подчеркнул Скворцов, – чтобы отвергать одно (православие – С. Ф), не трогать другого (самодержавия – С. Ф.)»[210]. Прозвучавшее заявление, казалось бы, расставляло все точки над «i»: синодальный чиновник напомнил богоискателям о пределах свободы совести, далее которых государству идти было нельзя, ибо тем разрушалась бы основа церковно-государственного союза. Ведь Россия – православно-самодержавная страна. Это был прозрачный намек на то, что вопрос о свободе совести – не только религиозный, но и политический, даже прежде всего политический.
На восьмом заседании об этом ясно говорил и епископ Сергий (Страгородский), подчеркнувший, что «русская государственная власть не может быть индифферентной, атеистической, если она не хочет прямо отречься от себя самой»[211]. По мнению владыки, главное заключалось в признании церковных идеалов безусловно неприкосновенными, чтобы государство освободило Церковь от несвойственных ей задач, не употребляя ее как орудие в свою пользу. «Тогда можно поднимать вопрос о свободе совести, – резюмировал владыка. – Иначе государство только в силу индифферентизма может дать свободу сектам наряду с Церковью»[212].
Итак, богоискателям разъясняли, что вопрос свободы совести для Православной Церкви не может быть актуальным до тех пор, пока само государство не согласится реформировать свои с ней отношения. Таким образом, вопрос о свободе совести увязывался с вопросом о церковных реформах, что заставляло богоискателей требовать от клириков дополнительных комментариев. В этих дискуссиях епископ Сергий принужден был от намеков перейти к более откровенным заявлениям, в итоге указав, что свобода совести в существующих условиях означала бы для Церкви остаться со связанными руками в то время, как у ее религиозных оппонентов руки были бы свободны. Некоторые участники встреч поняли это заявление, по сути повторив сказанное епископом: «Свобода религии в России тесно связана и осуществима только со свободой Православной Церкви»[213].
Но дискуссия на этом не завершилась, возобновившись при обсуждении темы о силе и насилии в христианстве. Председатель собраний вновь вынужден был объяснять церковную позицию, на сей раз в отношении вопроса «оказательства веры» неправославными. «Индифферентизма мы не можем допустить, – подчеркнул владыка, – а отношение к пропаганде – вопрос государственный»[214]. Конечно, он не мог более откровенно сказать, что Православная Церковь одно, а государство (хотя и называвшее себя православным) – другое, что у государства в России есть собственная церковная политика, что православное государство и Православная Церковь – не одно и то же. Как раз это положение наотрез отказывались понимать и принимать Д. С. Мережковский и близкие ему по духу богоискатели. «Православная вера совпадает с государством, – заявлял Д. С. Мережковский. – Но прежде чем подойти к православной вере, надо ее отличить от государственной веры. Это трудно сделать»[215].
Еще более радикальными были слова В. А. Тернавцева, убежденного в том, что «в Церкви необходимо отличать Церковь, а это возможно только веруя в нее. В наше время такая вера нужнее, чем когда-либо. Все христианство теперь как бы распадается; судя по-человечески, оно точно умирающее. Во всяком случае оно накануне величайших исторических потрясений. ‹…› В Церкви, как авторитете, – продолжал он, – как каноническом порядке, проблема о свободе человеческой совести не разрешается. Вместе с другими причинами это и обусловило почти всеобщее отступление от Церкви. Лишь в Церкви как откровении, как возрождении проблема совести разрешается без остатка»[216].
Столь специфическое понимание веры и Церкви не могло не вызвать резких откликов богословов. Так, читавший весной 1903 г. протоколы Религиозно-философских собраний профессор кафедры истории Священного Писания Нового Завета Киевской духовной академии Д. И. Богдашевский, в письме своему петербургскому коллеге, известному экзегету Нового Завета столичной академии профессору Н. Н. Глубоковскому вынужден был констатировать, что у выступавших «понятие о Церкви совершенно спутанное и метят не туда, куда следует; ясно чего желают, да никак не могут договориться. И какими богословами могут быть эти Мережковские и Розановы? – патетически восклицал профессор. – И ярыжки не договариваются до того, к чему приходят эти мудрецы»[217].
Приблизительно такого же мнения о выступлениях участников придерживался и генерал А. А. Киреев, постоянный посетитель Религиозно-философских собраний. Однако он полагал необходимым не закрывать собрания, о чем еще с 1902 г. думал К. П. Победоносцев, а давать правильные ответы на вопросы и заявления богоискателей. Так, в феврале 1903 г. старый генерал с удовлетворением записал в дневнике, что собрания соответствуют «очевидной духовной потребности современного нашего общества»[218], а спустя два месяца, заочно обращаясь к представителям «учащей Церкви», отметил: «Положим, говорят всякий вздор, ну так и отвечайте! Где поборники церковности! Досада берет! Не умеют ответить Розанову и Мережковскому!»[219]
Подобные замечания вызывались дискуссиями не только по хорошо известному Кирееву старокатолическому вопросу, но и по вопросам сугубо богословским – о духе и плоти, о браке, о догматическом развитии. Интересно, что последние две проблемы привлекли наибольший интерес – больше всего выступлений было на заседаниях, посвященных браку (86 выступивших) и проблемам догматического развития (75 выступивших). На собраниях «вопрос об отношении христианства к полу превратился в вопрос о его отношении к миру и человечеству вообще. Ставились проблемы религиозной космологии и антропологии»[220]. В действительности богоискателей волновали не столько богословские проблемы, сколько социальная позиция православных клириков, их отношение к возможности религиозной реформы. Найти точки соприкосновения между сторонниками «идеи религиозной общественности» и православными традиционалистами было исключительно трудно – тем более, что многие вопросы, интересовавшие богоискателей, для богословов не были актуальными.
Ознакомительная версия.