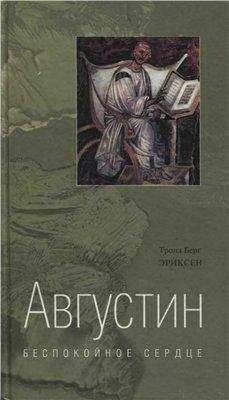Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя [86] .
Есть патриотизм, исходящий от природы и от быта, презирающий в них некий единый духовный уклад и лишь затем уходящий к проблемам всенародного размаха и глубины. Так, у Лермонтова («Отчизна»).
Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья —
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам —
Ее полей холодное молчанье,
Ее лесов дремучих колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленно пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужиков [87] .
Но есть иной патриотизм, исходящий от духовной отчизны, сокровенной и «таинственной», внемлющей «иному гласу», созерцающий «грань высокого призванья» и «окончательную цель» с тем, чтобы постигать и любить быт своего народа с этой живой, метафизической высоты. Таков граф А. К. Толстой («И. С. Аксакову»).
Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,
Что в них торжественности много
И слишком мало простоты.
Так, в беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,
И я не раз под голос грома,
Быть может, строил мой псалтырь.
Но я не чужд и здешней жизни;
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл,
Поверь, и мне мила природа
И быт родного нам народа;
Его стремленья я делю
И все земное я люблю,
Все ежедневные картины,
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,
И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги,
И рек безбережный разлив,
И скрип кочующей телеги,
И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую,
И свист саней на всем бегу,
На славу кованную сбрую,
И золоченную дугу;
Люблю тот край, где зимы долги,
Но где весна так молода,
Где вниз по матушке по Волге
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук.
Но все, что чисто и достойно,
Что на земле сложилось стройно,
Для человека то ужель,
В тревоге вечной мирозданья,
Есть грань высокого призванья
И окончательная цель?
Нет, в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа;
И что ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке,
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.
И нет сомненья, что око, привыкшее к созерцанию непреходящего, легче обретет вечные красоты и глубины в душе своего народа.
Итак, нет единого, для всех людей одинакового пути к родине. Один идет из глубины инстинкта, от той священной купины духовной, которая «горит и не сгорает» в его бессознательном; другой идет от сознательно-духовных созерцаний, за которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один начинает от голоса «крови» и кончает религиозной верой; другой начинает с изучения и кончает воинским подвигом. Но все духовные пути, как бы велико ни было их различие, ведут к ней. Патриотизм у человека науки будет иной, чем у крестьянина, у священника, у художника; имея единую родину, все они будут иметь ее – и инстинктом, и духом, и любовью и все же – каждый по-своему. Но человек, духовно мертвый, не будет иметь ее совсем. Душа религиозно-пустынная и государственно-безразличная, бесплодная в познании, мертвая в творчестве добра, бессильная в созерцании красоты, с совершенно неодухотворенным инстинктом, душа, так сказать, «духовного идиота» – не имеет духовного опыта; и все, что есть дух, и все, что есть от духа, остается для нее пустым словом, бессмысленным выражением; такая душа не найдет и родины, но, в лучшем случае, будет пожизненно довольствоваться ее суррогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от которого она, при первой же опасности, легко отречется.
Иметь родину значит любить ее, но не тою любовью, которая знает о негодности своего предмета и потому, не веря в свою правоту и в себя, стыдится и себя, и его; и вдруг выдыхается от «разочарования» или же под напором нового пристрастия. Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом (может быть, вполне «иррациональным») испытала объективное и безусловное достоинство этого священного – и узнала его в святынях своего народа. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное перед лицом Божиим; что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства; это значит пережить своего рода духовное обращение, которое обязывает к открытому исповеданию; это значит открыть в предмете безусловное достоинство, действительно и объективно ему присущее, и прилепиться к нему волею и чувством; и в то же время – открыть в самом себе беззаветную преданность этому предмету и способность бескорыстно радоваться его совершенству, любить его и служить ему. Иными словами, это значит – соединить свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою, а для этого необходимо, чтобы инстинкт человека приобрел духовную глубину и дар духовной любви [88] .
Вот этот процесс я и обозначаю словами: в основе патриотизма лежит акт духовного самоопределения.
Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит себе любимый предмет; тогда им овладевает новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает всегда способность к самоотвержению, ибо она заставляет человека любить свой предмет больше себя.
И вот, когда, человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего народа, – то он обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом: он совершает акт духовного самоопределения, которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения.
Духовное сокровище, именуемое родиною, не исчерпывается душевными состояниями людей; и все же оно прежде всего живет в них, в душах, и там должно быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе о родине неопределенно и беспомощно, тот должен обратиться прежде всего к своему собственному духу и узнать в своем собственном духовном опыте – духовное лоно своего народа (акт патриотического самопознания). Тогда он, подобно сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою родину; он услышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует; как она определяет, и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его личная жизнь и жизнь его родины – суть в последней глубине нечто единое и что он не может не принять судьбу своей родины, ибо она так же неотрывна от него, как он от нее: и в инстинкте, и в духе.
Однако родина живет не только в душах ее сынов. Родина есть духовная жизнь моего народа; в то же время, она есть совокупность творческих созданий этой жизни; и, наконец, она объемлет и все необходимые условия этой жизни – и культурные, и политические, и материальные (и хозяйство, и территорию, и природу). То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый «народ» его, но именно народ, ведущий духовную жизнь; ибо народ, духовно разложившийся, павший и наслаждающийся нечистью, – не есть сама родина, но лишь ее живая возможность («потенция»). И родина моя действительно («актуально») осуществляется только тогда, когда мой народ духовно цветет; достаточно вспомнить праведный, гневный пафос иудейских пророков-обличителей. Истинному патриоту драгоценна не просто самая «жизнь народа» и не просто «жизнь его в довольстве», но именно жизнь подлинно духовная и духовно-творческая; и поэтому, если он когда-нибудь увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении маммону и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, – то он со скорбью и негодованием будет помышлять о том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и все условия национальной жизни важны и драгоценны истинному патриоту – не сами по себе: и земля, и природа, и хозяйство, и организация, и власть – но как данные для духа, созданные духом и существующие ради духа.