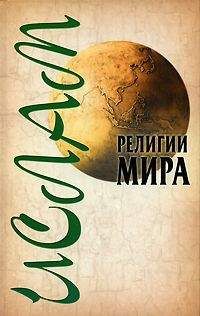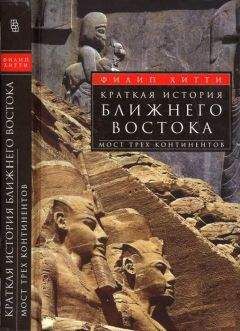Н. М. Никольский, уделивший большое внимание изучению белорусских поверий, сказок и песен, считает, что «рядом с фетишизмом каменных орудий должен был существовать фетишизм также деревянных орудий, тех суков и палок, которыми человек действовал раньше, чем дошел до применения камней». Он считает, что «следы его явственно выступают в сказках, именно в детали волшебной клюки бабы-яги, и в сказаниях о древних каликах перехожих, которые были чародеями и богатырями и манипулировали своими «клюками-посохами», по большей части деревянными, а иной раз из «рыбьей кости»».
Довольно распространенными у славян были также растительные фетиши. Одним из таких фетишей был папоротник, который наделялся сверхъестественными свойствами. По-видимому, толчком к почитанию папоротника было то, что он сильно отличается от других растений своими острыми листьями и что в его густых зарослях любят жить ядовитые змеи. Фетишистский характер виден и в почитании различных целебных трав, известных в знахарстве под названием разрыв-травы, горюн-травы, ключ-травы. С фетишистскими верованиями было связано и поклонение деревьям (дуб, береза).
Почитались первоначально сами травы и деревья; именно они наделялись волшебными свойствами, и это почитание связывалось с самими растениями, а не с обитавшими в них духами. Считалось, что исцеляет само растение, что его сок может превратиться в кровь. Деревьям, а не духам первоначально приносились» жертву хлеб, соль, яйца, к ним обращались с просьбами. «Гей ты, березка, седая, кудрявая, в поле на долине стояла, мы тебя обрубили, мы тебя сгубили, сгуби и ты мужа», — пели девушки во время семицких празднеств. Это фетишистское отношение к травам и деревьям пустило прочные корни в древнеславянских верованиях и долго сохранялось. Историк-искусствовед М. А. Алпатов сообщает, что деревья как предмет поклонения изображались в народных вышивках и в более позднее время.
Фетишистский характер религиозных верований славян ясно виден в представлениях о так называемом «живом» мертвеце, в которых почитание покойника связывалось не с верой в душу, а с верой в то, что труп опасен сам по себе, что он обладает сверхъестественными способностями выходить ночью из могилы, бродить по дорогам, душить встречных людей. Н. М. Никольский великолепно иллюстрирует такие верования примерами из белорусского и украинского фольклора. В белорусских поверьях рассказывается о том, как покойница мать приходила в дом и по ночам кормила своего грудного ребенка; о том, как умерший жених ночью приехал верхом на лошади к невесте и увез ее венчаться и только случай помог невесте благополучно вернуться домой; о том, как покойный ростовщик, не получивший при жизни долга с крестьянина, пришел к нему в образе борова и унес у него шубу. Украинская сказка повествует о том, как солдат вез тело к священнику, а мертвец встал из гроба и бросился на солдата; тот залез на дуб — мертвец перегрыз дерево, солдат перебрался на другое, а мертвец и его перегрыз. Солдат спасся от мертвеца только на третьем дубе, да и то потому, что пропели петухи, возвестившие утро. Во всех этих народных произведениях сам покойник наделяется сверхъестественными качествами, считается опасным, и это отношение к мертвецу не связано с верой в душу.
Следы тотемизма слабо сохранились в славянских верованиях. Это результат того, что к моменту образования древнерусского государства земледелие было основным занятием славян, а охота, рыболовство, бортничество являлись подсобными промыслами. И все же об остатках тотемистических верований говорят сохранившиеся до наших дней церковные проповеди, в которых изобличаются «бесовские» обряды, связанные с тем, что их участники рядились в звериные шкуры, плясали и пели обрядовые песни. Все это очень напоминает обряды поклонения животным у народов, которые долгое время сохраняли тотемистические верования. Н. М. Никольский считал, что колядные обряды (колядовщики водили с собой козла или козу, рядились в козлиные шкуры, пели «где козел ходит, там жито родит») своими корнями уходят в древние тотемистические верования. Отголоском тотемистических верований он считал уважительное отношение в народных сказках к медведю: «Царь медведь». Считалось, что медведь раньше был человеком, а теперь покровительствует человеку, помогает ему в борьбе с чертями. Эту точку зрения в определенной степени подтверждают и бытовавшие в сравнительно недавнем прошлом обряды: крестьянин вешал в конюшне медвежью голову, окуривал дом и надворные постройки медвежьей шерстью, зазывал вожака с медведем и просил его обвести медведя вокруг двора. Считалось, что это предохраняет от козней нечистой силы.
Славяне пользовались и магическими обрядами. В церковных поучениях осуждалось то, что славяне «немощь волшбвами лечат, и ноузы[1], и чарами, бесом требы приносят и беса, глаголемого тресовицу, творят, отгоняще».
Анимистические верования были широко распространены у славянских племен. Они возникли позже и слились с более ранними представлениями о чудодейственных растениях и деревьях, о «живом» мертвеце и т. д. Первоначально почитаемая вода-матушка населяется таинственными живыми существами — водяными, которым приписываются все несчастья, случившиеся с человеком на озере или реке. Водяные могут перевернуть лодку и затащить человека под воду. На основе олицетворения, а затем почитания деревьев возникает вера в лесного духа — лешего. Известен у славян и дух поля — полевик. Следует отметить, что водяного, лешего, полевика только с большой натяжкой можно назвать духами воды, леса и поля. Представлялись они древнему славянину очень реально, конкретно, как «материальные» существа. Водяные вели хозяйство, по ночам они выгоняли из омутов пастись на берега свои стада. Леший мыслился как деревянное существо, корявое, как кора дерева, косматое. Считалось, что жил он на деревьях или в дуплах, любил озорничать, по ночам дико кричал, неожиданно выглядывал из-за дерева и пугал запоздавшего охотника. Так же как и водяной, он вел хозяйство, распоряжался всеми лесными зверями. Полевик представлялся в виде козлообразного существа, которое жило в траве или в высоких колосьях. Вполне возможно, что мы тут имеем дело с первоначальным этапом возникновения анимистических представлений, когда духи еще не «дематериализовались», не абстрагировались от тех реальных объектов, которые почитались до анимизма.
В связи с длительным существованием патриархально-родового строя у древних славян был широко распространен семейно-родовой культ в виде почитания предков. Этот культ выражался в двух формах: в почитании родовых предков и в почитании семейных предков. К моменту образования древнерусского государства, в связи с разложением родового строя, культ родовых предков уже исчезал. Из представлений об обоготворенных предках сохранялось только представление о Чуре, в церковнославянской форме — Щуре. Чур охранял родичей от всякой беды, оберегал их родовое достояние. Это значение родоначальника как охранителя родичей мы можем увидеть в современном языке в выражении, употребляемом в момент неожиданной опасности: «Чур меня!» — т. е. «Храни меня, дед». В. О. Ключевский считал, что о функции чура как хранителя родового имущества говорит нам слово «чересчур» — в смысле нарушения какой-то границы, межи, законной меры. Этим же значением чура он очень остроумно объяснял одну из особенностей погребального обряда у славян, как его описывает Начальная летопись: покойника после тризны сжигали, кости его собирали в малую посудину и ставили на столб на распутье, где скрещивались пути, т. е. сходились межи различных владений. Придорожные столбы с прахом предка — это межевые знаки, охранявшие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда, считал В. О. Ключевский, страх суеверного человека перед перекрестком: здесь, на нейтральной почве, он чувствовал себя одиноко, за пределами родного поля, вне сферы действия своих охранительных чуров.
Как уже говорилось, родовой союз в это время распадался. Распадался он на дворы, сложные семьи. Это нашло свое отражение и в религиозных верованиях: родовая религия вытеснялась семейным культом, почитанием предков, покровителей семьи. К этому культу семейных предков восходят белорусские дни поминовения «святых дзядов» (святых родителей) или просто дзяды. Справлялись дзяды без какого-либо участия духовенства, что говорит об их дохристианском происхождении. Более важными считались осенние дзяды, которые, по-видимому, были связаны с поверьем, что на зиму души предков ищут теплый приют и родственники обязаны им его предоставить. К поминальным дням тщательно готовились: чистили избу, мылись в бане, готовили обильное угощение. Затем приглашались дзяды, начиналось пиршество, во время которого каждый старался «угостить» предков. Считалось, что дзяды могут сурово наказать непочтительных потомков. В религиозных верованиях из среды многочисленных и безличных предков— покровителей семьи со временем выделился специальный хранитель отдельного двора, отдельной семьи — дедушка-домовой.