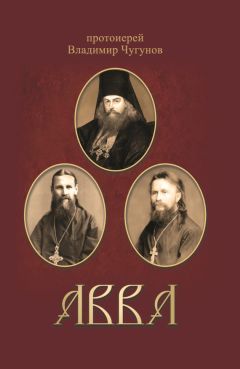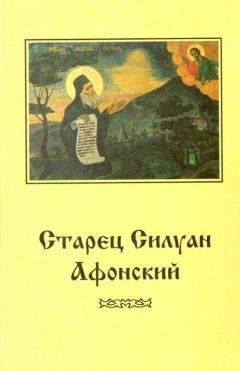Ознакомительная версия.
Но лик жизни нашей был суров и важен. Не раз тогда говорили мы об этом в беседах с мамой: не странно ли? Смерть никого не минует, но почему же тогда, в эти ранние годы, она миновала дома наших сверстников и сродников, но ангел смерти неотступно стоял над нашим домом?
Хочется призвать и другие милые тени, которые одаряли меня дарами любви и поэзии: няня Зинаида, которая бдела над нами в наших детских бедах и была такая замечательная рассказчица о своей жизни из крепостного быта. Она и певала нам свои песни из этого прошлого, и это пение ложилось в душу как музыка жизни. Помню оттуда такие бесхитростные слова:
В посиделках девки пряли.
Они пряли, веселились, всякая с своим дружком.
Вдруг мальчишка девке красной
Бросил взор свой распрекрасный,
Что-то на ухо шепнул.
Что шепнул, я не слыхала,
Как взглянул, я не видала,
Только милая узнала,
что он сердцу её мил…
А дальше следует другая картина:
Как во городе в Орле
В большой колокол звонят —
То Парашу хоронят,
А Ванюша-то Параши
Гробову доску вскрывал,
Сам Парашу целовал.
Ты, прости, прости, Параша,
Прости, милая моя,
Не досталася, Параша,
Ты ни мне, и никому.
Ни злодею моему.
Няня рассказывала про крепостной театр, про свою былую жизнь. И сама она как будто не существовала, она была стихией русской ласки, жалости, любви к нам. И подобной была и другая няня Елизавета, сказочница. Как она умела рассказывать сказки, страшные, фантастические…
Ливенцы жили, кроме исключений, для нас не существовавших, в великой бедности и убожестве. Это был город не крестьян, людей производительного труда, и не купцов, и не дворян, но мелких мещан, существование которых зависело от случайного барыша и не носило в себе никакой обеспеченности. Это было ниже, чем пролетарии, трясущееся приниженное существование. Конечно, оно вырабатывало и инстинкт приниженности, было и это, но запечатлелась во мне какая-то смиренная простота, с которой несли своё существование, да кротость. Это то, что я унёс со своей родины.
Родина – святыня для всякого, и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь… Но изломанными и таинственными путями Бог дал мне и вторую родину – Крым, но это не вторая, а тоже единственная, но которая явилась мне в другом образе славы и также с ангелом смерти. Только там родина, где есть смерть. И потому последнее слово о родине – о смерти».
«Я родился и вырос под кровом церковным, и это навсегда определило мою природу. Это есть моя «почвенность», которая повелительно звала и через многие годы призвала меня к алтарю. Рукоположение для меня было не внешним биографическим фактом, которого могло бы и не быть, но внутренним необходимым раскрытием самого моего существа, голосом моей «левитской» крови. Я – левит, и всё полнее сознаю своё левитство и дорожу им (готов сказать: горжусь им). В русской истории «духовное» сословие, при всех немощах, было действительно и наиболее духовным. Религия из детства была для меня моей стихией, призванием, влечением, которое никогда меня не оставляло, как собственное моё, глубинное естество. Я всегда жил в вере и верою.
Как же могло случиться, что этой верой моей стало неверие, и я в нём прожил не короткий промежуток времени, но долгие годы, целую часть своей жизни, примерно с 14–15-го года жизни, стало быть, с отрочества и ранней юности до зрелого возраста, примерно, до исполнившегося 30-летия?
На это время падают и такие события моей жизни, как вступление в брак, рождение первого ребёнка, смерть деда и братьев…
Как произошло это отшествие блудного сына из дома отчего, о котором я всегда, хотя сначала и бессознательно, а затем и всё более сознательно, тосковал? Как?
Странным образом на этот вопрос, как совершилось это падение, которым, конечно, явилось для меня отпадение от веры, я принуждён ответить: никак. На Страшном Суде Христовом обнаружатся все тайники души, и глубины греха, в которых это зародилось, но – дерзну исповедывать наряду с грехом своим и всю, конечно, относительную и ограниченную, малую правду своего безбожия. Поскольку в нём совершилась моя трагическая судьба. Впрочем, я привык думать (и постигаю это всё глубже), что вообще лишь трагедия, конечно, с её преодолением, есть единственно достойный «путь спасения». На путях человеческих надлежит быть и «ересям», да откроются искуснейшие в искусстве их, а от искушений не освобождён был и праведный Иов, их не отрицался и сам Сын Божий как Сын Человеческий.
Общий характер моего искушения в неверии и моей трагической в нём судьбе я определил бы как несоответствие между тем образом религиозной жизни, как она определялась для меня тогда в мысли и культуре, и моими личными запросами, отречься от которых я не мог и не хотел во имя правды, как я её тогда понимал. Отказаться от её критерия, вступить на путь внутреннего и внешнего компромисса и тем более остаться в нечувствии его я также не мог и не хотел. Я должен был вступить в борьбу, но не преклониться перед обывательством и порабощением духовным, которое изнутри проникали поры церковности, меня окружавшей. И единственным исходом для этой непримиримости и этого моего разлада явилось… безбожие, уход из отчего дома».
И не только из дома родительского, но и из духовной семинарии буквально за год до её окончания.
«Я повторяю, что никогда не терял веры и не погружался в неверие, но всегда жил верой, сколь бы она ни была слепотствующей. И, однако, не могу без скорби и раскаяния вспоминать и теперь об этих годах тьмы и отпадения…
Как это случилось?
Как-то сразу, неприметно, почти как нечто само собою разумеющееся, когда поэзию детства стали вытеснять проза бурсачества в семинарии. Конечно, здесь в духовном смысле побеждала и гордость, нежелание согласиться, стать как все, разделить общий образ бытия. А его неприятие так легко, – с преступной легкостью – переходило в холодность к детским верованиям и их отвержение.
Когда же началось сомнение, критическая мысль, рано пробудившаяся, не только перестала удовлетворяться семинарской апологетикой, но и начала ею соблазняться и раздражаться.
Семинарская учёба непрестанно ставила мысль перед вопросами веры, с которыми не под силу было справляться своими силами, а то, как всё это преподавалось, ещё более затрудняло моё внутреннее положение. Не буду здесь вспоминать недобрым словом наставников своих, в которых много было доброго и светлого, а если и были слабости, то как пороки возраста, а не человека. Однако внутренний разлад, однажды появившийся, всё углублялся и переходил в религиозный кризис. Это было то состояние, которое описано в стихах честного семинариста, прошедшего тем же путем, Н. А. Добролюбова: «гимнов божественных пение стройное – память минувшего будит во мне». Оно заканчивается словами: «детскими чувствами вновь я горю, – но уста уже не шепчут моления – но рукой я креста не творю». И это противление ещё усиливалось чрез принудительное благочестие: продолжительные службы с «акафистами» и подобное, вообще обрядовое благочестие уже не удовлетворяло, а только раздражало, мистическая же его сторона всё больше переставала для меня существовать.
Здесь вступила в действие ещё новая сила – интеллигентщина – судьба и проклятие нашей родины, искушение от нигилизма, надолго оторвавшее меня от почвы. Естественно и почти без борьбы потеряв религиозную веру, я сделался «интеллигентом» как в положительном, так и отрицательном смысле: интеллигентности в само собою разумеющемся соединении с нигилизмом. Однако – опять-таки и здесь я должен наряду с исповеданием всей лжи нигилизма – свидетельствовать и о правде моей непримиримости к раболепству и порабощённости всей русской жизни, в частности и церковной, общего характера эпохи. Этого я не мог и не должен был принять, и в этом неприятии я не могу раскаиваться. В известном смысле могу сказать, что его я сохранил «даже и до дня сего» и хочу сохранить до конца своих дней, – верность началам свободы и хранения человеческого достоинства, с непримиримостью ко всякому «тоталитаризму». Здесь я хочу остаться в рядах русской «прогрессивной» (не хочу отрицать также и этого слова) общественности.
Однако именно на этих путях, общественного и государственного самоопределения, меня ждали наибольшие трудности и искушения, особенно в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и всецело стал на сторону революции с её борьбой против «царизма» и «самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась, и хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казёнщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел её, в единомыслии со всею русскою революцией, и постольку разделяю с нею и весь грех её перед Россией. Однако грех этот состоит не столько в свободолюбии и в этом смысле революционности, сколько в нигилизме и историческом своеволии, в последнем счёте, самочинии с отсутствием чувства меры. Во всяком случае, вся гамма монархических чувств, если и была когда-нибудь хотя бы в малой степени мне знакома, быстро во мне испарилась. Я ещё помню из отрочества, как я десятилетним мальчиком горестно переживал убийство Александра II, со всей трогательностью этой кончины, ещё усиливавшейся обликом Царя-освободителя. Однако этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца политическим обликом его преемника и всем общим характером царствования Александра III. Этот режим я переживал с дней юности своей со всей непримиримостью, и вся связь «православия с самодержавием», как она тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном не только политическим, но и религиозным. В таком же настроении встречено было мною и вступление на престол его преемника, с речью о «бессмысленных (беспочвенных) мечтаниях» (о конституции).
Ознакомительная версия.