Таким образом, отец — воплощение источника, от которого зависят, но которому в то же время обязаны своим существованием. Он — источник, освобождающий и оправдывающий собственное существование. Поэтому отношение «отец—ребенок» представляет собой символ condition humaine (человеческого положения); оно выражает идею, что свобода человека есть относительная и конечная свобода. Устранение отца было бы возможно лишь ценой заносчивой утопии абсолюной свободы и нечеловеческого господства человека. Так как отношение «отец—ребенок» является не только необходимой принадлежностью человека, но и не может быть заменено никаким другим отношением, «отец» есть первоначальное и основное слово истории человечества и религии, которое не может быть заменено никаким другим термином и не может быть переведено никаким другим понятием. Только на этом фоне становится видным весь масштаб современного кризиса.
Бог как Отец в Ветхом Завете
Бог откровения есть Бог людей, говорящий на их языке. Поэтому исходное человеческое слово «отец» в то же время является основным словом библейского откровения[571]. Оба религиозно–исторических мотива, генеалогически–мифологический и социолого–юридический, стоящие за употреблением понятия «отец» в истории религии, очень затруднили библейскую рецепцию этого понятия. Ведь библейский Бог — не просто глубинное измерение действительности, но свободный Господин истории[572].
Центральные выражения Ветхого Завета — «Бог отцов» (Исх 3:13 и др.), Бог Авраама, Исаака и Иакова, и народ Израиль как сын Божий не по естественному происхождению, а на основе исторического избрания и призвания (Исх 4:22; Ос 11:1; Иер 31:9). Отцовство Бога и сыновство Израиля обоснованы не мифологически, а конкретным опытом спасительного деяния в истории. Богосыновство, обоснованное таким образом, еще для Павла представляется величайшей привилегией Израиля (Рим 9:4).
Хотя и в Ветхом Завете указания на мифологическое понимание отцовства не совершенно отсутствуют (ср. Втор 32:8; Пс 28:1; 88:7 и др.). однако они утончены почти до неузнаваемости. Мифологема об отце богов здесь «только стилистическое интермеццо, поэтическая формулировка», которая «лишь поверхностно затрагивает мифологическое представление»[573]. Если однажды говорится о том, что Бог «родил» царя (Пс 2:7), то под этим подразумевается не родственное отношение, а акт избрания, которое мы, скорее всего, назвали бы усыновлением.
Исходя из идеи призвания и избрания, Ветхий Завет воспринимает оправданное стремление мифа критически. Ведь идея союза, завета указывает на идею творения. Суверенное призвание и избрание Богом предполагают, что Бог — Господин всей действительности, т.е. что Он — Отец, который создал все (Втор 32:6; Мал 2:10) и что поэтому Он — Причина и Господин всей действительности (Ис 45:9–10; 64:7). Основанный в идее завета мотив Отца указывает не только на творение, но и за собственные пределы. Только в последние времена сынам Израилевым скажут: «вы сыны Бога живого» (Ос 2:1; ср. 2 Цар 7:14; Пс 88:27). Таким образом, историческое обоснование мотива отца в Библии связано не только с идеей происхождения и авторитета всего древнего и старинного, но также и с идеей будущего и надежды на новое. Это первоначально новое состоит в конечном итоге в прощающей и милующей отцовской любви Бога (Ос 11:9; Ис 63:16; Иер 31:20). «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс 102:13). К этой отцовской милости Израиль всегда может прибегать с повторяющимся призывом: «Ты — Отец наш» (Ис 63:15–16; 64:7–8). К этому Богу Отцу может взывать уже ветхозаветный праведник, полный благоговения и доверия (Сир 23:1; 51:10). Бог в особенной степени «Отец сирот» (Пс 67:6). О Нем говорится: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» (Пс 26:10).
Последние из названных аспектов показывают, что связанное с идеей завета представление о Боге как Отце может пророчески и критически обращаться против конкретных мирских отцов. В действительности достоинство Отца присуще только Богу. Не человеческий отец, а Бог, от которого исходит все отцовство (Еф 3:15), определяет, что есть истинное отцовство. Поэтому в библейском смысле речь об Отце — это не просто сакральный апофеоз отцовской власти, а, в качестве основания последнего, ее норма и критика. Вместе с этим исключено неверное сексистское толкование религиозного понятия «отец». Это следует в т.ч. из того, что Ветхий Завет может описывать любящую милость Отца и с помощью женственных, материнских характеристик (Ис 66:13).
Так, ветхозаветное истолкование религиозно–исторического мотива отца выражает особенность ветхозаветной веры в Бога: свобода и суверенитет Бога, Его трансцендентность, которая есть свобода в любви и поэтому проявляется в истории как нисхождение в имманентность, как бытие–с–нами. Как Отец Бог — не только происхождение и не только настоящее, но и будущее, Бог в истории. Поэтому в ветхозаветном отцовском мотиве связаны в неразрывном напряженном единстве судящая даль и спасительная близость, суд и благодать, всемогущество, милость и прощение. Это напряжение указывает за свои собственные пределы и стремится к последней однозначности.
Бог как Отец в Новом Завете
Ветхий Завет достигает в Новом своего превосходного исполнения за счет того, что слово «Отец» становится собственным наименованием и обозначением Бога. Большинство экзегетов единодушны в том, что это необычное обозначение восходит к самому Иисусу. Слово «Отец» как обозначение Бога в устах Иисуса встречается в Евангелиях не менее 170 раз. В евангельском предании можно даже установить растущую тенденцию вставлять в слова Иисуса обозначение Бога как Отца. Однако было бы неверным делать из этого заключение о том, что оно появилось лишь в позднейшем богословии христианской общины. Напротив, в этой тенденции выражено воспоминание о характерной для Иисуса речи об Отце как «моем Отце», «вашем Отце», «Отце» вообще или «Отце небесном».
У Иисуса речь о Боге как Отце связана с центром и горизонтом всей Его проповеди и всей Его общественной деятельности — с вестью о пришествии царства Божьего[574].
Это понятие «царства Божьего» представляет собой лишь поздний абстрактный образ для вербального высказывания, что Яхве — Господь или Царь (Пс 46:6–9; 92:1 и др.). Под «царством Божьим» в первую очередь подразумевается не пространственное царство, а историческое проявление господства Бога, откровение Его славы и доказательство Его Божественности. В конечном итоге речь идет о радикальном истолковании первой заповеди и об ее историческом подтверждении: «Я Господь Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем моим» (Исх 20:2–3). Поэтому весть о пришествии царства Божьего у Иисуса непосредственно и неразрывно связана с призывом к обращению и вере (Мк 1:15).
Поскольку царство Божье и его пришествие — дело исключительно Бога, оно не может быть заслужено, построено или навязано ни посредством религиозно–этических достижений, ни посредством политической борьбы. Оно дается (Мф 21:43; Лк 12:32) и завещается (Лк 22:29). Притчи выражают это обстоятельство выразительнее всего: пришествие царства Божьего есть Божье чудо вопреки всем человеческим ожиданиям, сопротивлению, расчетам и планам. Мы не в состоянии «сделать» его ни консервативным, ни прогрессивным, ни эволюционным, ни революционным, мы можем только готовиться к нему в обращении и вере. Только во внешней и внутренней бедности, бессилии и ненасилии человек может воздать должное Божественности Бога. Он может лишь молиться: «Да приидет царствие Твое» (Мф 6:10; Лк 11:2). Тому, кто так верит и молится, позволено принимать участие во всемогуществе Бога (Мк 9:23); поэтому тот, кто молится, уже сейчас приобретает (Лк 11:9–10; Мф 7:7–8). Молитва с верой не только обладает уверенностью будущего услышания; она уже сейчас — предвосхищение царства Божьего, потому что она позволяет Богу быть Господом и действовать. Не академическая речь о Боге, а разговор с Богом, молитва для Иисуса — «место в жизни» истинного богословия.
Таким образом, для Иисуса характерны абсолютная внутримировая безусловность и чистое милосердие царства Божьего. Его обращение к грешникам, к безбожникам — это, так сказать, только одна сторона этой вести, его речь о Боге как любящем и милосердном Отце — другая и основополагающая. Она отчетливейшим образом выражает, что царство Божье исходит только от Бога, что оно — чистая благодать и милосердие. То, что оба эти аспекта взаимосвязаны, трогательно показывает притча Иисуса о блудном сыне, которую лучше было бы назвать притчей об отцовской любви Бога (Лк 15:11–32). Не освободительный и протестующий уход, а возвращение в дом отца, который не унижает блудного сына, а вновь утверждает его в его сыновних правах, — это спасение человека. Царство Божье не угнетает человеческую свободу, а напротив, извлекает ее из унижения и восстанавливает ее в правах.
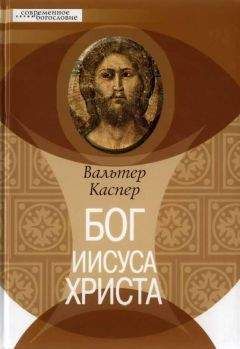

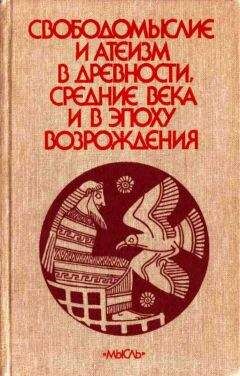
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)
