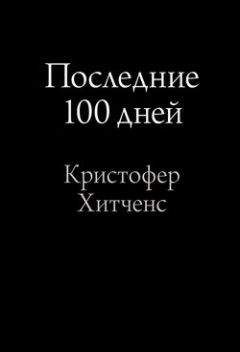Надеюсь на оздоровление обстановки в Германии и на то, что в будущем таких ее великих сынов, как Кант и Гете, будут не просто славить время от времени, ио принципы, которым они учили, возобладают в общественной жизни и общественном сознании.
Вполне очевидно, что он, как и всегда, «уповал» на наследие эпохи Просвещения. Те, кто пытается переврать слова человека, давшего нам новое понимание вселенной (а также те, кто, в лучшем случае, молчал, пока других евреев депортировали и истребляли), лишь выдают уколы собственной совести.
От советского и китайского сталинизма, с его непомерным культом личности и извращенным равнодушием к жизни и правам человека, трудно ожидать многих точек соприкосновения с религиями-предшественницами. Начать с того, что Русская православная церковь была главной подпоркой самодержавия, а сам царь считался ее формальным главой и существом чуть повыше рангом, чем простые смертные. В Китае христианские церкви в своем подавляющем большинстве отождествлялись с теми самыми «концессиями», что были навязаны колониальными империями и стали одной из основных причин революции. Это не извиняет ни убийства священников и монахинь, ни осквернения церквей (как нельзя извинить поджоги церквей и убийства священников в ходе борьбы Испанской республики с католическим фашизмом), но после долгого союза религии с коррумпированной светской властью большинству стран приходится пройти по крайней мере через одну антиклерикальную фазу: вспомним Кромвеля, Генриха VIII, Французскую революцию и Рисорджименто. В условиях войны и общественного коллапса, царивших в России и Китае, эти интерлюдии были особенно кровавы. (Добавлю, впрочем, что ни один серьезный христианин не станет надеяться на восстановление религии в этих странах в ее прежнем виде: в России церковь была охранителем крепостного права и инициатором еврейских погромов, а в Китае миссионер, барыга и концессионер были сообщниками преступления.)
Безусловно, Ленин и Троцкий были убежденными атеистами, полагавшими, что религиозные иллюзии можно ликвидировать государственной политикой, а непристойно обильные богатства церкви -— отобрать и национализировать. В рядах большевиков, как и среди якобинцев в 1789 году, были те, кто видел в революции некую альтернативную религию, связанную с мифами об искуплении и мессианстве. Для Иосифа Сталина, который учился на священника в духовной семинарии в Грузии, вопрос религии сводился к власти. «Сколько дивизий у папы римского?» — задал он однажды свой знаменитый глупый вопрос{У. Черчилль описывает, как в 1935 г. после обсуждения Сталина с министром иностранных дел Франции Пьером Лавалем численности французской армии на Западном фронте, Лаваль попросил Сталина поддержать католичество в России: «Это бы так помогло мне в делах с папой». «Ого! Папа! — воскликнул Сталин. — А сколько у него дивизий?» — Прим. ред.}. Сталин педантично копировал папское обыкновение подгонять науку под догму: он был уверен, что шарлатан Трофим Лысенко раскрыл тайну генетики и гарантирует небывалые урожаи особо вдохновенных овощей. По мере того, как его режим становился более националистическим и государственническим, этот кесарь (которому послушно воздавали все, что можно) позаботился обеспечить себя марионеточной церковью, чтобы ее традиционное влияние дополняло его власть. Это особенно проявилось во время Второй мировой войны, когда вместо «Интернационала» государственным гимном СССР стала пропагандистская ода вполне в духе 1812 года (и это в то самое время, когда «добровольцы» из нескольких фашистских государств Европы вторглись на территорию России под святым знаменем крестового похода против «безбожных» коммунистов). В незаслуженно обойденном вниманием эпизоде «Скотного двора» Оруэлл позволяет ворону Моисею, давно каркавшему о райских кущах в небесах, вернуться на ферму после победы Наполеона над Снежком и проповедовать животинам полегковерней. Оруэлловская аллегория того, как Сталин манипулировал Русской православной церковью, как всегда, била в яблочко. (После войны к очень похожей тактике прибегли польские сталинисты: они легализовали католическое объединение под названием «Pax Christi» и выделили ему места в парламенте, к вящей радости таких сочувствующих католиков-коммунистов, как Грэм Грин.) В Советском Союзе велась антирелигиозная пропаганда самого банального материалистического пошиба: в ленинских храмах нередко были витражные стекла, а в официальном музее атеизма хранились показания русского космонавта, не видевшего в космосе бога. В этом идиотизме сквозило не меньше презрения к народу-простофиле, чем в любой чудотворной иконе. Великий польский поэт и нобелевский лауреат Чеслав Милош писал в своей классической антитоталитарной работе «Подневольный ум», вышедшей в 1953 году:
Я знаю немало христиан — поляков, французов, испанцев, — которые являются последовательными сталинистами в политике, но не вполне последовательными в душе. Они верят, что Бог внесет свои исправления после того, как будут приведены в исполнение кровавые приговоры всесильных титанов Истории. Такая логика завела их довольно далеко. Они утверждают, что история следует неумолимым законам, существующим по воле Бога; классовая борьба — один из таких законов; XX век — век победы пролетариата, борьбу которого направляет коммунистическая партия; Сталин, предводитель коммунистической партии, исполняет закон истории — иначе говоря, божью волю, — следовательно, ему следует подчиняться. Обновление человечества возможно лишь но российскому образцу, а потому ни один христианин не должен противостоять единственно верной — пусть и жестокой — идеологии, которая создаст па всей планете новый сорт людей. Такую логику часто исользую церковные функционеры, обслуживающие партию. «Христос — это новый человек. Новый человек — это советский человек. Значит, Христос — это советский человек!» — сказал как-то Юстиниан Марина, румынский патриарх.
Люди, подобные Марине, несомненно, заслуживают одновременного презрения и жалости, но их поведение, по своей сути, ничем не хуже бесчисленных пактов церкви с империей, церкви с монархией, церкви с фашизмом, церкви с государством, — пактов, которые неизменно оправдываются необходимостью временного союза ради «высших» целей и воздают кесарю («царь» происходит именно от этого слова), даже если он «безбожен».
Любому политологу и антропологу хорошо знакомо то, что издатели и авторы «Поверженного Бога» запечатлели в бессмертной светской прозе: хорошо понимая, до какой степени общество пропитано набожностью и суеверием, адепты коммунистического абсолютизма стремились не преодолеть религию, но заменить ее. Торжественное восхваление непогрешимых правителей, источников нескончаемой благодати; перманентные поиски еретиков и раскольников; поклонение мумиям мертвых вождей; жуткие показательные процессы с невероятными признаниями, сделанными под пытками... Все это прекрасно укладывалось в знакомую картину. Укладывалась в нее и охота на ведьм во время эпидемий и голода, когда власти маниакально хватали всех виновников, кроме настоящего. (Великая Дорис Лессинг как-то рассказала мне, что вышла из коммунистической партии, узнав, что сталинские инквизиторы разграбили музеи православия и царизма и пустили в ход старые орудия пыток.) Укладывались и неутихающие речи о «светлом будущем», наступление которого в один прекрасный день искупит все преступления и развеет все мелочные сомнения. Старая религия учила: «Extra ecclesiam, nulla salus»{«Нет спасения вне церкви» (лат.).}. «Внутри революции — все» — говаривал Фидель Кастро. — Против революции — ничего». Интересно, что именно на коммунистической периферии под властью Кастро зародилась причудливая мутация, названная оксимороном «теология освобождения». Примкнувшие к ней священники и даже некоторые епископы вводили «альтернативную» литургию, укореняя абсурдную идею, что Иисус из Назарета на самом деле был завзятым социалистом. Из комбинации здравых и дурных соображений (сальвадорский епископ Ромеро обладал мужеством и принципами, в отличие от некоторых священников из никарагуанских «базовых общин») папский престол объявил это течение еретическим. Жаль, что ни фашизм, ни нацизм не дождались столь же решительного, недвусмысленного осуждения.
В очень редких случаях — к примеру, в Албании — коммунизм пытался извести религию на корню и провозгласить чисто атеистическое государство. Это закончилось лишь еще более раздутыми культами таких посредственных личностей, как диктатор Энвер Ходжа, а также тайными крещениями и ритуалами, которые свидетельствовали о полном отчуждении простых людей от режима. В современной светской полемике нет даже намека на призыв к запрету религиозных обрядов. В «Будущем одной иллюзии» Зигмунд Фрейд совершенно справедливо отмечает, что религиозное чувство в принципе неискоренимо, пока человечество не сумеет преодолеть страх смерти и склонность выдавать желаемое за действительное. Ни первое, ни второе не представляется вероятным. Тоталитарные режимы лишь продемонстрировали, что религиозное чувство — потребность в поклонении — может принять еще более чудовищные формы, если его подавляют. Едва ли это комплимент нашему пристрастию к обожествлению.