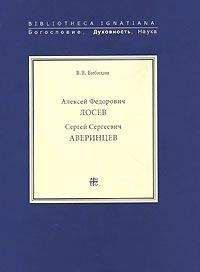традициям. Женственный колорит третьего Евангелия хорошо гармонирует с эмоциональной чуткостью и впечатлительностью, которые отмечают его повествование (ср. знаменитую притчу о блудном сыне — 15, 11–32). Литературный талант и редкая способность психологического вчувствования позволили автору этого Евангелия создать на основе палестинских преданий новый тип выразительности, в котором с еще небывалой цельностью сливаются восточные и греческие черты.
Три первых канонических Евангелия при всем своем различии остаются в рамках одной и той же литературной формы, основанной на относительном равновесии наивной повествовательности и религиозно-морального содержания. По-видимому, по этому же типу были созданы и некоторые Евангелия, не вошедшие в канон (например, «Евангелие от евреев», интересное, в частности, тем, что было известно еще читателям IV в. не только в греческом переводе, но и в арамейском подлиннике). Когда возможности этой литературной формы оказались исчерпанными, дальше можно было идти двумя путями. Можно было дать автономию повествовательной фантазии, снять с нее все запреты и ограничения, открыть доступ самым диковинным, аморальным, противоречащим стилю христианства эпизодам, т. е. превратить серьезный религиозный эпос в занимательную и пеструю сказку. По этому пути пошли составители многочисленных апокрифов о детстве девы Марии и Христа («Евангелие от Фомы», «Первоевангелие Иакова Младшего», латинское псевдоевангелие Матфея). Образы канонических Евангелий подвергаются в апокрифах этого типа безудержному расцвечиванию и грубой вульгаризации (так, отрок Иисус изображен как опасный маг, использующий свою силу для расправы со сверстниками и учителями). Церковь боролась с этим видом низовой словесности, но истребить его не могла; он был слишком связан со стихией фольклора и слишком дорог широкому читателю. На протяжении всего Средневековья апокрифы любят, читают, а нередко и создают заново.
Но равновесие повествовательного и поучительного элементов в первоначальной евангельской форме могло быть нарушено не только в пользу повествования, но и в пользу умозрения. Эта возможность была реализована в многочисленных гностических (еретических) Евангелиях: в них рассказ о Христе лишен наивности, переосмыслен в духе мифологического символизма и насыщен религиозно-философским материалом («Евангелия» от египтян, от Филиппа, от Иуды, «Евангелие Евы», «Евангелие Истины» и т. п.). Аналогичный им литературный тип мы находим и в каноне Нового Завета. Это четвертое Евангелие — Евангелие от Иоанна.
Когда читатель первых трех канонических Евангелий переходит к четвертому, он попадает из мира хотя бы и необычных, но человечески понятных событий в сферу таинственных и многозначительных символов. Если Евангелия от Марка, Матфея и Луки раскрывают общедоступные стороны новозаветного учения, то Евангелие от Иоанна дает его сокровенную эзотерику. Земная жизнь Христа интерпретируется как самораскрытие мирового смысла (примерно так может быть передано греческое понятие «логос», условно переводимое по-русски как «слово»). Четвертое Евангелие обращается к важной для мифа идее изначального, исходного; оно с умыслом открывается теми же словами, которыми начат рассказ о сотворении мира в Ветхом Завете (Быт., 1, 1) — «в начале». Вот этот пролог: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово; оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него не начало быть ничто из того, что начало быть. В нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков: и свет во тьме светит, и тьма не объяла его…» (Ио., 1, 1–5). Автор как бы сам вслушивается и вдумывается в постоянно повторяемые им слова-символы с неограниченно емким значением: уже в приведенном только что прологе появляются Слово, Жизнь и Свет, затем к ним присоединяются чрезвычайно важные словесные мифологемы — Истина и Дух. Изложение отличается сжатостью и концентрированностью; своему по-гераклитовски темному стилю автор сумел придать единственную в своем роде праздничность и игру — не случайно в топике четвертого Евангелия огромную роль играют переосмысленные символы дионисийского восторга (претворение воды в вино в гл. 2, образ Иисуса — Лозы Виноградной в гл. 15). Евангелист любит упоминать брачное ликование (брак в Кане, гл. 2, слова Иоанна Предтечи, 3, 29: «Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась»); гибель Христа он описывает как его мистериальное «прославление» (12, 23 и др.). Эта динамика экстаза выражена такими словами: «Дух веет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, так бывает со всяким, рожденным от духа» (3, 8). Если третье Евангелие ввело в кругозор раннего христианства эллинистическую моральную и эмоциональную культуру, то четвертое Евангелие ассимилировало греческую философскую мысль и диалектику греческого мифа, — разумеется,
радикально переработав и то и другое в духе христианской мистики.
«Апокалипсис» примыкает к старой традиции восточного мистического осмысления истории (ветхозаветная «Книга пророка Даниила», зороастрийская и кумранская эсхатология); он рисует конечные судьбы мира как последнее столкновение добра и зла. Зло изображено как «звериная» мощь римской государственности, все подминающая под себя: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли… И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не станет поклоняться образу зверя. И он сделает так, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Апок., 13, 11 и 15–17). Рим, «великий город, царствующий над земными царями» (17, 18), оказывается Блудницей Вавилонской, «яростным вином блудодеяния своего напоившей все народы» (18, 2). Все это преступное величие, построенное на крови «святых божьих», будет сметено мировой катастрофой, набросанной в архаически-косноязычном стиле: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его!» (14, 9—11). Затем обновленное мироздание, очистившись от скверны, вступает в новое бытие; тот, кто мужественно перенес испытания, получает награду, а «боязливые» (21, 8) посрамлены. Эти пророчества призывают христианина «смело и гордо провозглашать себя приверженцами своей веры перед лицом противников» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 480). Гневная непримиримость героической поры христианства хорошо выразилась в словах: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как тепел, а не холоден, извергну тебя из уст моих» (Апок., 11, 15–16). Этот же пыл и вызов мы встречаем в послании к смирнейцам, приписываемом Игнатию Богоносцу, но не вошедшем в канон Нового Завета: «Для чего я предаю себя смерти: огню, мечу, диким зверям? О, ближе к мечу — ближе к богу; в пасти диких зверей ты в руках божиих. Так да совершится же это во имя Иисуса Христа! Ради того, чтобы пострадать с ним, я вытерплю все, если он, совершенный в мужестве, подаст мне силы» (4, 2). Такие интонации постепенно становятся топикой обширной литературы о мучениках — важнейшего рода раннехристианской словесности.
«Апокалипсис» стоит у истоков средневековой литературы «видений». Визионерские записи не всегда приобретали столь грандиозный характер; более обычный образец жанра дает «Пастырь» Гермы, принадлежащий, по-видимому, первой половине II в. и одно время едва не вошедший в канон. В начале этой книги просто и доверительно излагается любовное переживание автора — римского раба, издали влюбленного в свою госпожу; затем он в ряде видений получает упреки за столь низменные чувства, и образ женщины, в которую он был влюблен, вытесняется идеальными женскими образами Добродетели и Церкви. Эта сублимированная эротика — своего рода христианская параллель к «Пиру» Платона — сочетается с необычайной мягкостью и улыбчивостью настроения; трудно подыскать больший контраст к суровости «Апокалипсиса». Персонажи видений Гермы, даже браня его за прегрешения, торопятся утешить его шуткой, как огорченного ребенка: их внушения спокойны и благостны: «Возлюби простоту, стань бесхитростным и уподобься младенцам, еще не понимающим порока» (27, 1). Попав на лоно природы, Герма, как истинный горожанин, впадает в умиленный восторг (3, 1). Все это в сочетании с верой, что для человека не так трудно стать добрым и чистым — стоит только захотеть, — создает своего рода буколическую атмосферу, к которой хорошо подходит «пастушеское» заглавие.