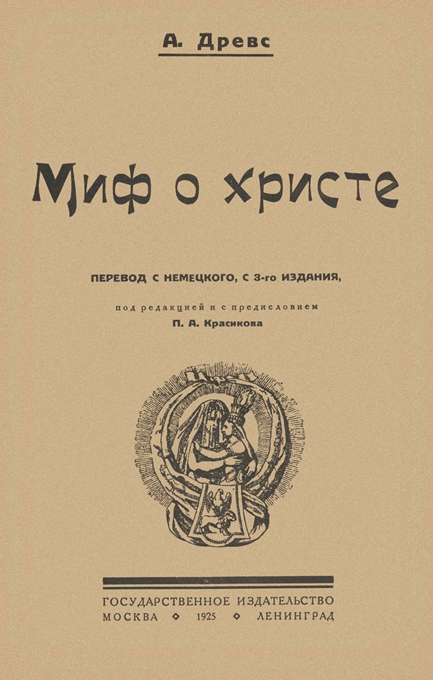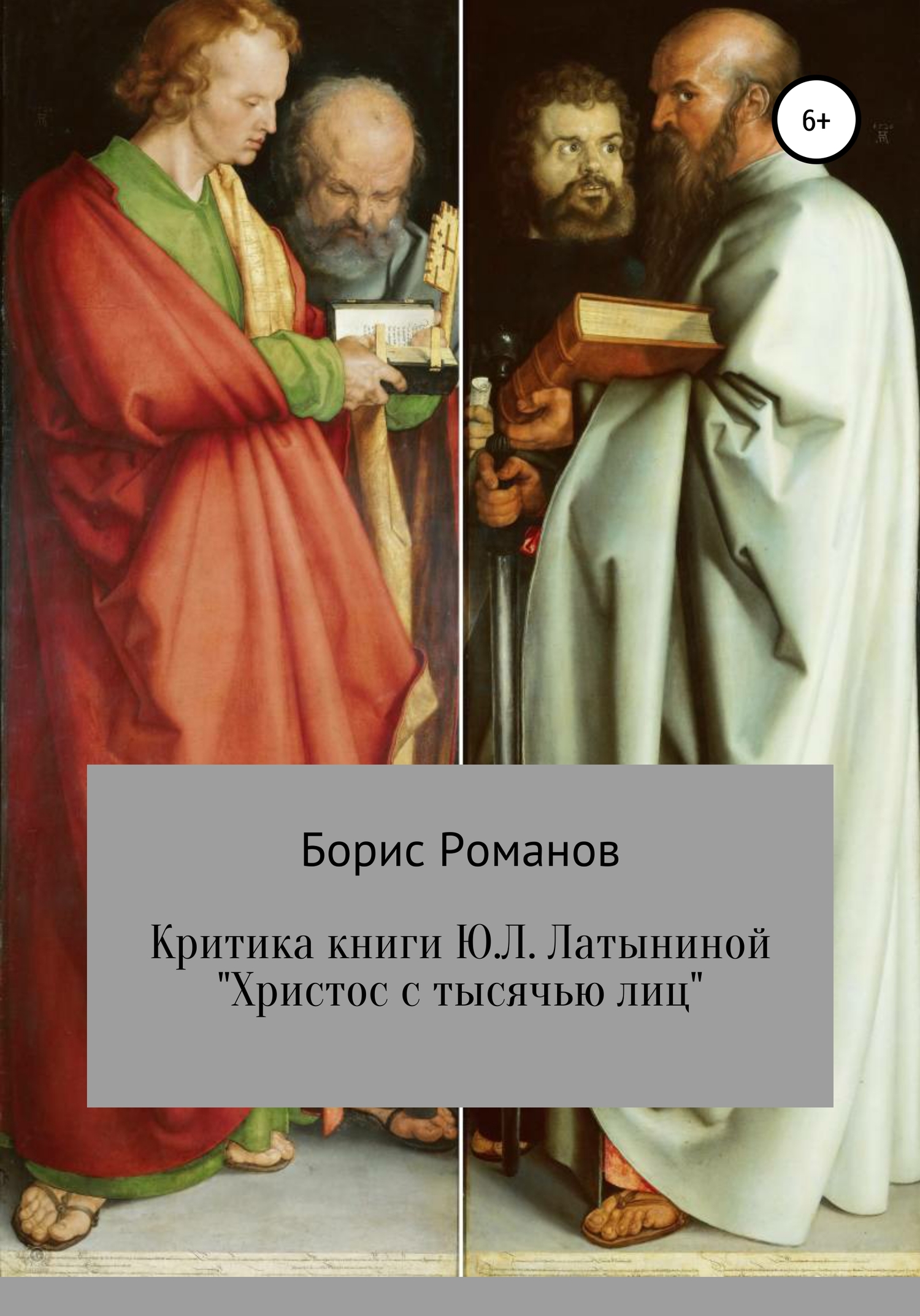представляя собой как бы посредствующее звено между чисто-метафизическими воззрениями гностиков на Христа и реалистическим представлением синоптиков об Иисусе-человеке.
Автор, который написал под именем Иоанна, «любимого апостола Иисусова», четвертое евангелие (это было, надо полагать, в Эфесе в 140 г. по Р. Х.), так же, как и гностики, воспринимает весь мир в целом дуалистически. Божественному царству света, царству «жизни», истины противостоит смертельно враждебное ему царство тьмы, лжи и зла. Во главе небесного царства стоит бог, который еще в парсизме определялся как «свет», «истина», «жизнь», «дух». Во главе земного царства стоит сатана (Ангромайнью). Посреди, между двумя этими «царствами» стоит человек. Но и человечество, подобно всему бытию, распадается на две существенно различных части. Душа одних людей происходит от бога, души других — от сатаны. «Божьи дети» по природе своей призваны к добру и способны обрести спасение, «дети сатаны», к которым Иоанн в первую голову относит в полном согласии с гностиками иудеев, не восприимчивы ни к чему божественному, а поэтому осуждены на вечное проклятие. Чтобы осуществить дело спасения рода человеческого, бог из «любви» к миру послал своего единородного сына, единосущного ему, т. е. единственное существо, которое, как «сын божий», происходит не от какого-нибудь другого существа, а именно., от бога. Автор четвертого евангелия отождествляет «единородного» с «логосом» Филона, который, по представлению гностиков, был одним из многочисленных «эонов», являясь сыном «единородного» и, следовательно, только внуком бога. Он сливает, таким образом, все множество (плерома) эонов, на которое распалась, по воззрениям гностиков, божественная действительность, в единый принцип «логоса». Он провозглашает «логос» единственным носителем всей полноты божественного величия, предвечным творцом мира, и так как «логос» по существу своему идентичен богу «отцу», то он и его определяет, как «источник жизни», как «свет», «истину», «дух» всего мирового целого.
Как же «логос» осуществляет спасение человечества? Он становится «плотью», т. е. принимает образ «человека» Иисуса, не переставая, впрочем, быть сверхчеловеческим «логосом» и в качестве «логоса» приносит людям «жизнь», которою он сам является через «откровение» людям завета мудрости и любви. Как носитель «откровения» мудрости, Христос является «светом мира», он открывает людям тайну их божественного происхождения, он учит их богопознанию, пониманию себя и мира, он собирает воедино «детей божиих», как пастырь своих- овец, он превращает их в братьев «во Христе», он дает им возможность обрести в следовании «логосу» «свет жизни», т. е. внутренне просветиться и возвыситься. Как носитель «откровения» любви, он, приняв на себя образ человеческий, не отрекается от своей божественной благости, а напротив, как «добрый пастырь», полагает жизнь свою за стадо свое. Он спасает «детей божиих» от власти сатаны, от ужасов тьмы, он жертвует собой за верующих в него, дабы в этом проявлении своей любви к людям, в этом совершенном самопожертвовании обрести ту «жизнь», какой он был изначально, и затем вернуться к небесной славе своей. В том-то и смысл спасительного подвига Христа, что люди посредством веры и любви соединяются с Христом, обретая тем «жизнь» в ее возвышенной духовности. И если сам Христос возвратился в богу, то «дух» его продолжает жить на земле. Подобно «второму параклету» или наместнику, «дух» христов продолжает дело спасения людей, пробуждает и укрепляет в людях веру в Христа, любовь к нему и к ближним, приобщает верующих к «жизни» и после смерти ведет их к вечному блаженству в потустороннем мире.
Во всем этом влияние гностицизма и Филонова учения о «логосе» сказалось совершенно ясно, и весьма вероятно, что автор четвертого евангелия был приведен к учению Филона о «логосе», этом основном понятии эллинской философии, воспоминаниями о «логосе» эфесского Гераклита, еще живых в городе, где было написано четвертое евангелие. В чем, однако, автор четвертого евангелия резко расходится с Филоном и гностицизмом, так это в утверждении своем, что «логос» стал плотью, странствовал по земле и умер в образе Иисуса из Назарета. Правда, он так и остается при этом голом утверждении, ибо ему очень слабо удался, несмотря на его высокую оценку синоптических рассказов о жизненных судьбах Иисуса, образ живого человека. Идея божественности спасителя, — вот что определяет собой все изложение четвертого евангелия. Перед этой идеей «исторический образ» спасителя отступает на задний план, и Иисус вырастает в нечто такое необычное, чудесное и сверхъестественное, что если бы в нашем распоряжении было одно четвертое евангелие, никому бы и в голову не пришло, что в нем содержится жизнеописание какой- то исторической личности. Но все же. четвертое евангелие различается в этом отношении от синоптиков только в степени. И синоптический Иисус является по существу не человеком, а сверхчеловеком, богочеловеком, культовым героем, носителем благодати ранних христианских общин. И если только признать, что вся идейная борьба учителей церкви против гностических еретиков сосредоточилась не вокруг вопроса о «божественности» Иисуса, в чем все были согласны, а вокруг вопроса о той или иной Степени «человечества» его, если только признать это, то одного этого «парадоксального» факта достаточно, чтобы сделать совершенно определенное заключение: лишь божественность спасителя была первоначально общепризнанным, непоколебимым и само собой разумеющимся принципом общехристианской веры, тогда как «человечество» Христа подвергалось сомнениям уже в самую раннюю эпоху христианства, именно поэтому являясь предметом самой ожесточенной борьбы, самых горячих споров.
Действительное слияние мифологической личности гностического «сына божия», который еще в образе Филонова «логоса» колеблется между безличным духовным существом и аллегорической личностью, с образом «человека» Иисуса — так и не было достигнуто автором четвертого евангелия. Все усилия предполагаемого Иоанна изобразить слиянность божеского и человеческого в едином образе личного, по существу своему божественного, но по проявлениям своим земного Иисуса в какой-нибудь постижимой форме неизбежно разрушаются тем, что никак нельзя себе представить персонифицированный «логос» человеком, а человека, по существу своему божественного, божеством. Поэтому-то и христов Иоанна все время колеблется, как говорит Пфлейдерер, «между возвышенной истиной и призрачной небылицей: он истинен, поскольку в качестве «сына божьего», идеала человеческой религии, совершенно свободен от всяких рамок личности, национальности, места и времени; он призрачен, поскольку представляет собой странствующего по земле под мифической человеческой оболочкой бога».
Несомненно одно: лишь это слияние гностического «сына божьего», Филонова «логоса» с синоптическим Иисусом претворило туманную отвлеченность мифологического умозрения в живой и наглядный образ личности спасителя. Именно этот образ оказался ближе и понятней верующим, чем все остальные боги-спасители. Именно этот образ привел к тому, что христианский Иисус, столь человечный и человеческий, исполненный любви и благости, получил такой перевес над всеми своими конкурентами, над Митрой, Аттисом и т. д., что все они померкли перед ним, превратившись