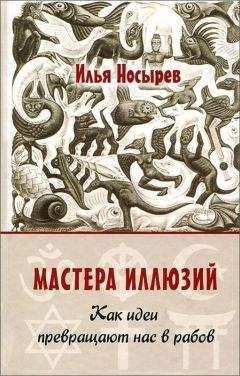Благодаря чему способ приспособления к среде, используемый человеком, оказался более быстрым, чем тот, что демонстрируют большинство видов животных? Революционное для истории науки объяснение дал в 1972 году Карл Поппер, основатель эволюционной эпистемологии. Поппер считал, что сам процесс познания, характерный для человека, продолжает генеральную линию дарвиновской эволюции путем естественного отбора, но уже на более высоком уровне: точно так же, как природа создает все более жизнеспособные формы существ, человеческое познание опробует различные концепции и выбирает те, что дают более полное знание о мире. Человеческий способ адаптации гораздо выгоднее, чем тот, что характерен для животных: и эволюция амебы, и эволюция концепций в мозгу Эйнштейна в равной степени подразумевают эксперимент, в ходе которого совершаются, а затем устраняются ошибки. Но если амеба, в чьем геноме возникла нежизнеспособная мутация, устраняет оплошность собственной смертью, то Эйнштейн ограничивается тем, что подвергает нежизнеспособную концепцию критическому анализу и предпочитает ей оптимальную. Этот отбор наилучших концепций и организационных форм лежит в основе научно-технического и социального прогресса41. Именно это объяснение и стало одной из важнейших философских заслуг Поппера: работа мозга и интеллектуальный прогресс человечества в целом осуществляется по тому же алгоритму естественного отбора, что и эволюция биологических видов, просто человеческий мозг использует этот алгоритм более экономно.
Поппер считал, что его модель относится преимущественно к научному познанию, но другие исследователи, прежде всего социальный исследователь Дональд Кэмпбелл, задались вопросом, можно ли применить эволюционную эпистемологию к развитию всей человеческой культуры. Модель пришлось подкорректировать: ведь если культура подразумевает естественный отбор идей, то процесс не ограничивается индивидуальным сознанием человека, а происходит внутри сразу многих сознаний. Культура не только сокращает «путь ошибок трудных», заменяя индивидуальное познание, потребовавшее бы от каждого человека в одиночку совершать все пробы и ошибки, необходимые для познания окружающей реальности, познанием коллективным, заранее предохраняющим от ошибок и аккумулирующим эвристические алгоритмы и полезные знания, но и служит внешним средством, благодаря которому человек структурирует свое сознание, тренирует свой интеллект42. Человек зависим от культуры и не может жить вне ее. Но коль скоро культура возникла как форма адаптации в интересах выживания человечества, означает ли это, что ее дальнейшая, продолжающаяся и в наши дни эволюция ведет к улучшению адаптации к среде? Как известно, Поппер придерживался оптимистичных взглядов на будущее и считал, что, вооруженное научным знанием, человеческое сообщество движется к определенной цели — открытому обществу. В этом плане его взгляд на эволюцию познания неизбежно схож с позитивистским: это прогресс, движение по восходящей.
Но точно ли направление развития культуры предопределено заранее этой тенденцией к улучшению адаптации человека к миру, в котором он живет? Отметим, что отбор идей, который имеет место в предложенной Поппером модели, фактически является искусственным, а не естественным — ведь критерий жизнеспособности, по которому его Эйнштейн отбирает нужные идеи точно так же, как селекционер отбирает функциональные, с его точки зрения, наследственные признаки охотничьих собак или ездовых лошадей, носит произвольный характер. Повышает ли этот отбор приспособленность Эйнштейна к его среде обитания, зависит от того, какую именно цель преследует его мысленный эксперимент (т. е. от целеполагания): если Эйнштейн занят поиском наиболее эффективного способа самоубийства, победа его высокого интеллекта над трудной задачей едва ли повысит адаптивность бедняги. Целеполагание диктуется как эмоциями, так и способностью к анализу и опытом, которые у любого человека и общества в целом ограниченны. А если вспомнить, что люди, жившие века назад, в массе своей обладали куда менее развитым методологическим аппаратом, чем современный человек, становится ясно, что путь познания представлял собой не изящную восходящую кривую, а постоянные блуждания в потемках. Прогресс человеческой мысли более всего заметен в научно-технической области именно потому, что это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где возможны чистый эксперимент и достоверная верификация, даже если они осуществляются не профессиональными учеными, а рядовыми членами общества. Средневековый солдат мог испытывать пристрастие к верному клинку, но, наблюдая способность мушкета убивать на расстоянии и пробивать толстые доспехи, он был рано или поздно обречен перейти к использованию огнестрельного оружия. Однако определить умозрительно, какая форма организации общества, какой общественный институт или идеология наиболее эффективны, задача не просто нелегкая, но, скорее всего, просто невыполнимая. Каким же образом в культуре закрепляются оптимальные варианты тех или иных ее элементов, а также социальных институтов, позволяющие человеческому сообществу эффективно приспособиться к среде обитания?
Судя по всему, это приспособление подчиняется алгоритмам, изучением которых занимается теория игр: в культуре периодически возникают разнообразные элементы, которые сосуществуют на протяжении некоторого времени; с ходом времени те из них, которые повышают адаптивность сообщества к среде, закрепляются, а те, что бесполезны в решении этой задачи, перестают воспроизводиться и утрачиваются. Такая модель, предложенная в 1965 году Д. Кэмпбеллом, и в самом деле весьма напоминает биологическую эволюцию, где адаптивные гены со временем вытесняют неадаптивные43. Подлинно естественным отбором концепций будет процесс, в котором: а) отбор идей осуществлялся бы не отдельным индивидом, а целым сообществом — ведь большинство идей человек черпает из культуры; б) оптимальность идеи определялась бы не соответствием неким идеалам, характерным лишь для индивида-«Эйнштейна», а более очевидными показателями — ростом численности сообщества, продолжительности жизни его членов и т. п. В такой модели внутри сообщества должна происходить конкуренция элементов, относящихся к одной и той же области культуры — например, различных способов получения продовольствия, различных видов орудий труда или оружия, противоречащих друг другу этических норм: итогом конкуренции становилось бы закрепление элементов, обеспечивающих максимальную его адаптивность.
Работает ли такая модель в эволюции культуры? Разумеется: человеку, интересующемуся историей, на ум сразу приходят примеры перехода от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, освоение сложных методов агрикультуры, вытеснение бронзовых орудий железными и т. п. Гораздо более интересный пример, касающийся не технологии, а этики, приводит американский антрополог Уильям Дархэм. Известно, что в большинстве обществ, как современных, так и древних, кровосмешение запрещено. Учеными установлено, что у детей, родившихся в результате инцеста, выше вероятность развития наследственных болезней, а их репродуктивные способности ниже. Очевидно, что первобытные племена не вели долгосрочных наблюдений за линиджами различных семей и не могли научно установить опасность врожденных дефектов, которую несут с собой близкородственные браки. Запрет на кровосмешение, который зафиксирован в большинстве культур мира, Дархэм трактует именно как культурную идею, оказавшуюся полезной: системы родства у большинства народов устроены таким образом, что исключают возможность кровосмесительных браков. Иными словами, кровосмесительный брак устранен из человеческой культуры методами естественного отбора идей, поскольку он представляет собой неадаптивное явление44.
В примере Дархэма отбор идей является до некоторой степени осознанным: ученый подчеркивает, что обобщения того или иного уровня, касающиеся связи между инфертильностью и инцестом, существуют во всех культурах. Однако порой для естественного отбора культурных элементов и осознание отнюдь не требуется: случайно возникший элемент может закрепиться вовсе не потому, что воспринявшее его сообщество здраво оценило преимущества. Традиционно историки считали, что переход к земледелию носил вполне осмысленный характер: постепенно осваивая возделывание фруктовых деревьев, овощей и злаков, древний человек заметил, что оседлый образ жизни и агрикультура дают ему возможность вести более сытое и менее подверженное опасностям существование. Однако современные исследования показывают, что в действительности жизнь первых земледельцев была поистине чудовищной: они не только тратили на получение пропитания больше времени, чем охотники-собиратели, но и имели более низкую продолжительность жизни, чаще испытывали голод из-за нерегулярности урожаев и были больше подвержены болезням, возникавшим от скученности и антисанитарии. Следовательно, популяция людей, постепенно переходящая к земледелию, едва ли могла оценить плюсы нового способа производства пищи и выбрать их сознательно. Однако если такой переход имел место, он оказывался бесповоротным: вернуться к кочевой жизни мешали инерция мышления и все возраставшая потребность сообщества в пище. Что же происходило с популяцией земледельцев далее? Отсутствие необходимости перемещаться с места на место и более богатый белками и углеводами рацион способствовали тому, что в семьях появлялось гораздо больше детей. Как следствие, уже через несколько поколений сообщества земледельцев многократно превышали численностью сообщества охотников-собирателей; затем они начинали распространяться по значительной территории; оседлый образ жизни давал возможность постепенно (на протяжении тысячелетий) совершенствовать орудия труда, культуру и социальную организацию45.