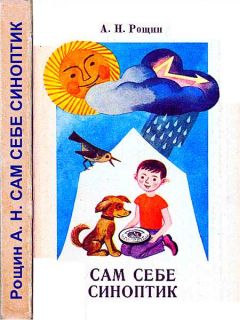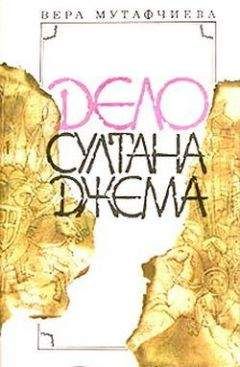оправдывающее политкорректность и секуляризм. Протестантское евангельское движение в лице консервативных баптистов, евангелистов, пятидесятников обладает крайне высокой степенью адаптивности к демократии, рыночной экономике и глобализации, но неиерархично и слабо сплочено.
Влияние церковных институтов с точки зрения институционального подхода оказывается намного более многофункциональным и зависящим от их политического капитала в системе социальных отношений. Детерминированность роли церквей социальной структурой хорошо показана в анализе социального пространства П. Бурдье: «по мере того, как политический капитал Церкви объективируется в институциях и, как это происходит в последнее время, в постах, контролируемых церковью (в образовании, прессе, молодежном движении и т. п.), власть ее все менее и менее опирается на внушение ее догматов и “спасение душ”; гораздо лучше власть Церкви измеряется числом должностей и агентов, опосредованно ею контролируемых». Размышляя о происхождении государства и групп людей, заинтересованных в его функционировании, Бурдье приводит пример: «власть Церкви в действительности не измеряется, как считалось, числом празднующих Пасху, но числом тех, чей экономический и социальный фундамент социального существования и, в частности, доходы прямо или опосредованно связаны с церковью, и кто в силу этого “заинтересован” в ее существовании» [113]. Безусловно, радикальный детерминизм П. Бурдье в отношении церковных институтов слишком однобоко трактует их как часть только социально-экономических отношений (у церквей есть масса «агентов», которые контролируются не экономически, а идейно и мистически). Для нас важно, что социологическая интуиция приводит Бурдье к выводу, что политический капитал церкви уже не определяется привычными измерениями параметров организованной религиозной жизни, и фундамент этого капитала следует искать в другой сфере. Социологи называют этот процесс «накоплением» рациональности: «В отличие от античности и Средних веков современной политической жизни чужда апелляция к сверхразумному и онтологически трансцендентному. Наглядность, верифицируемость и прогнозируемость вытеснили ожидания чуда и веру в авторитет» [114].
Политические акценты в деятельности религиозной организации появляются в связи с миссионерскими задачами по увеличению своих приверженцев. Религия вовлекается в процесс политической социализации: «Степень же этой вовлеченности зависит от того, насколько сильно делается акцент на ценностях, связанных с миром политического» [115]. К этому следует, однако, добавить, что церковные структуры сами постепенно приходят к расширению представления о своих последователях – это уже не только прихожане, посетители богослужений, но и широкий круг вовлеченных в церковные инициативы.
Вытеснение религии с прежней абсолютной роли освящения повседневной жизни и политической власти стало фактором, который заставил исследователей искать ответ на вопрос о том, какие формы религия и религиозность приобрели в современном мире. Представление о десекуляризации сменилось выводом о том, что религия возвращается в других формах множественной религиозности, когда религиозные институты теряют свое авторитарное влияние (Ю. Хабермас, Ч. Тэйлор, Д. Мартин, П. Бергер). Церкви превращаются в силу, которая служит переменам, что является современным политическим феноменом (С. Хантингтон). Европейцы делегируют функции идентичности церковным институтам, что получило определение «замещающая религия» («vicarious religion», Грейс Дейви). Американцы живут в рамках «гражданской религии», где реальная религиозность является одним из ключевых элементов идентичности нации (Р. Белла). Модернизация затрагивает системные качества религиозных организаций в функциональном (определяющем характер связей в религиозной среде и способы осуществления взаимодействий) и в структурном (задающем морфологические типы и особенности строения самой организации) планах. Но религия сохраняет медиативную роль в модернизации процессов социальной коммуникации [116].
Значимым фоном для понимания гражданской активности религии может служить концепция духовных сетей и особенностей изменения религиозного индивидуализма Д. Эрвье-Леже. Исследователь полагает, что изменение религиозного индивидуализма лучше всего обнаруживается внутри духовных групп и сетей (другой социолог Ф. Шампион называет эти сети «мистическо-эзотерической туманностью»). Именно в духовных сетях отражаются основные тенденции развития общественного сознания: поиск личной аутентичности, рост значения личного опыта, отрицание готовых схем и систем мышления, индивидуальное самосовершенствование. Как подчеркивает С. Трофимов, на границах или даже в центрах приходов могут возникать гибкие и неустойчивые формы социальности – духовные группы и сети, основанные на духовном, социальном и культурном сходстве вовлеченных в них индивидов, например, католические или протестантские духовные профессиональные группы, объединяющие специалистов, которые работают в одной области и связаны между собой дружбой, общим языком, обычаями, образом жизни и культурным багажом [117]. Такого рода духовные сети могут быть названы институтами гражданского общества внутри религии, прототипами новых форм религиозных институтов в политической жизни.
Сила религиозной веры, по словам Д. Эрвье-Леже, связана со скоростью перемен во всех сферах общественной жизни: «религиозная вера теперь все труднее вписывается в догматические рамки институциональных религий. В обществах, в которых автономия индивида была усвоена в качестве ведущего принципа, именно индивиды создают для себя, все в более независимом режиме, маленькие системы верований, вполне соответствующие их желаниям и опыту». Ослабление институционализированных истин воспринимается как потеря, проблема для индивидов, которые вынуждены сами искать эти «истины». Призыв к воссозданию сообщества, скрепленного общей идеей, может появиться на самом переломе осязаемых социорелигиозных связей: «В таких случаях может возникнуть необходимость в “базовой платформе определенности” (“base-platform of certainty”) внутри сжатого пространства небольшого сообщества» [118].
С точки зрения М.М. Мчедловой, новая конфигурация взаимоотношений религии и общества, религии и политики, государства и церкви складывается из соотношения веры, конфессиональной идентичности и религиозных институтов. Мчедлова также утверждает, что понятие конфессиональной идентичности коррелирует с ослаблением традиционных политических и гражданских форм солидарностей: «С одной стороны достаточно активное вмешательство институционализированных религиозных организаций в политическую сферу вызывает негативный фон в обществе. С другой – консолидирующая роль Церкви как института, прослеживаемая сквозь призму солидаристско-духовных и государственно-исторических контекстов, отражается в высокой степени доверия, демонстрируемого нашими согражданами. Это отражается и в сложившейся парадоксальной ситуации: процент доверяющих Церкви как институту значительно больше невысокой доли тех, кто считает, что для решения проблем, стоящих перед страной, необходимо усиление политического влияния Церкви» [119].
Наиболее близко к определению нового формата церкви как гражданского института подошел американский социолог П. Бергер. По его словам, религиозные организации должны выработать способность функционировать как деноминации, то есть как добровольные ассоциации, и протестантизм имеет сравнительное преимущество в этом смысле: «Римско-католическая церковь после долгого периода отчаянного сопротивления стала весьма успешно адаптироваться к ситуации плюралистического соревнования и легитимировала эту адаптацию теологически в декларации религиозной свободы, начиная со Второго Ватиканского собора… Раннее христианство, в силу различных причин, существовало в качестве добровольной ассоциации как в греческой, так и в латинской части Римского мира». Перспективы Православной церкви Бергер в этой связи оценивает скептически: «После правления Константина Восточная Церковь существовала в рамках четырех социальных форм: (1) как государственная церковь – сначала в Византии, потом в России, а затем в независимых государствах, образовавшихся в результате распада