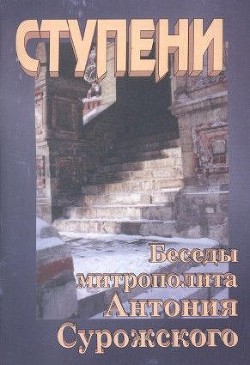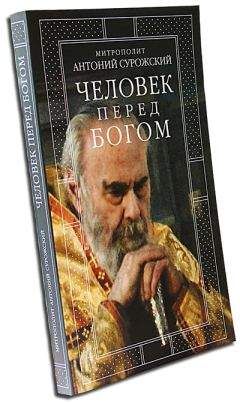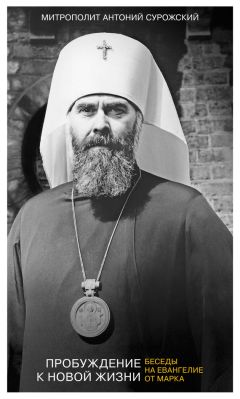нас, но который сам в какой-то мере остается невидимым. Витраж, благодаря тому, что он сочетает в себе так много красок, и тому, что у него есть сюжет, говорит нам сразу о двух вещах: в своем сюжете он сообщает нам нечто, например, о жизни Христа, какого-либо святого или о событии, своими красками он доносит до нас этот рассказ с помощью силы красоты. Но когда мы увидим и воспримем сюжет и красоту витража, мы должны помнить о том, что и сюжет, и красота раскрываются благодаря свету, который исходит извне; и я думаю, то же самое можно сказать об иконах. Но если через созерцание икон, через понимание того, что есть икона, мы научились видеть мир как икону, то мы должны обратиться к окружающему нас миру и в том полумраке, который представляет собой мир, в котором мы живем, научиться сквозь тьму видеть свет. Здесь я напомню слова православного епископа, которые я приводил раньше: «Когда Бог смотрит на человека, Он видит в нем не добродетели или достижения, которых может и не быть, но ту красоту, которую ничто не может уничтожить» [31].
Лекция 2
Красота и истина
Я хотел бы сначала попросить прощения за одно свое вчерашнее высказывание и внести поправку. Когда я давал вам примеры того, как можно лишить объект смысла или увидеть в нем смысл, я говорил о молодом богослове, который определил дерево только как строительный материал. После этой беседы кто-то совершенно справедливо сделал мне замечание, что нечестно по отношению к тем людям, которые работают с деревом, с металлом или с другими материалами, считать, что они ничего не смыслят в красоте этих материалов. Я, конечно, не имел этого в виду. Моя мысль заключалась в том, что человек, который работает с древесиной или металлом и создает из него какой-то предмет, может вместе с тем оценить сущность этого материала, он может воспринимать все богатство дерева. А молодому человеку, который, думая о дереве, не видел ничего, кроме древесины, – не то, что можно из нее создать, а просто строительный материал, – не хватает глубины ви́дения. Если вы хотите более точный образ, чем тот, что я привел вам, можно взять одного из героев Диккенса, который, когда увидел в поле стадо коров, в восторге, с гастрономическим энтузиазмом, воскликнул: «Живая говядина! Живая говядина!» [32] Я думаю, это более подходящий образ, и он намного лучше передает мысль, которую я хотел донести.
Сегодня я бы хотел говорить о красоте, а не только о смысле. Есть одно старое выражение (по крайней мере, современное Гёте): «Красота – в глазах смотрящего». Мы можем также сказать, что и красота, и уродство в глазах смотрящего. Означает ли это, что вне смотрящего нет ничего, что является красотой? С другой стороны, каким образом человек, который видит прекрасное или который смотрит на предмет, находящийся вне его самого, различает или определяет красоту? Вопрос в том, как мы соотносимся с этим предметом. Именно так думали древние мыслители, начиная с Платона или даже до него, – они говорили о красоте как о познании, а не как о предмете эстетического наслаждения. Через познание красоты можно как бы приобщиться тому предмету, который находится перед нами. Французский философ Люсьен Леви-Брюль писал, что почуять красоту – значит войти в мистическое со-причастие с объектом, в котором мы ее увидели, с произведением, которое мы считаем красивым. Это приобщение мы можем понимать по-разному. Мы можем вкладывать в предмет красоту или что-то другое, что есть в нас самих. А бывает, что объект являет перед нами такие черты, в которых мы не можем не увидеть красоту.
Первым подходом, при котором объекту придаются черты, принадлежащие человеку, то есть объект очеловечивается (я сейчас не имею в виду красоту), мы пользуемся, когда, например, говорим, что какое-то животное воплощает собой определенную черту характера. Таким образом, мы придаем животному аллегорическое значение. В таком случае, если мы при виде гиены мы говорим: «Что за мерзкое хищное животное, нападающее исподтишка!» – это не значит, что мы что-то знаем о самих гиенах. Но когда мы видим, как она бежит трусцой и при этом ее передняя часть выше, чем задняя, глядя на весь ее облик, мы представляем себе: «Если у кого-то из моих родных, друзей или знакомых было бы такое же выражение лица, такое же туловище, такая же походка, какое это было бы мерзкое существо!» – и несчастная гиена вынуждена нести на себе клеймо мерзкого создания. То же самое, возможно, в более утонченной форме, подчас замечают психоаналитики, говоря, что для нас красота неотделима от эмпатии. Другими словами, восприятие красоты связано с тем, что мы смотрим на объект и вкладываем в него частичку себя самих, затем мы смотрим на него снова и видим себя – ужасное выражение – объективированными (это термин Геринга [33]). Таким образом, мы говорим о красоте как о реакции на нас самих, объективированных вовне, то есть на то, какие мы замечательные.
При этом подходе происходит и то, что описывают психоаналитики, которые в своих исследованиях рассматривают искусство как процесс придания объекту души, утверждая таким образом – не только намекая на это, но открыто заявляя, – что ни один объект не имеет в себе содержания, которое может быть воспринято нами; именно мы одушевляем объект, придаем ему значение, а затем даем ему толкование. Это уже как бы вторичный процесс, следующий шаг.
А есть другой подход, которого придерживалось и придерживается множество древних и современных писателей: они говорят, что есть нечто вне нас, что может быть названо красотой или уродством. И я постараюсь в течение этого и следующего выступления постепенно прояснить если не ваши, то, по крайней мере, свои размышления на эту тему.
С одной стороны, имеет место то, что выражено в словах Гёте. Да, верно: «красота – в глазах смотрящего», потому что смотрящий должен уметь видеть, а видеть умеют далеко не все. Когда я говорю «видеть», я имею в виду все возможные способы восприятия – иначе, если каждый раз повторять «видеть, слышать, обонять и т. д.», получится слишком длинно. Я дам вам один пример из персидской литературы.
Давным-давно в Персии жил очень известный и глубокоуважаемый поэт по имени Меджнун. Всю жизнь он посвящал стихи своей возлюбленной Лейле. Эти стихотворения были так прекрасны и такой прекрасной была в них Лейла, что шах решил: он должен непременно увидеть героиню этих стихов. Лейлу привели к