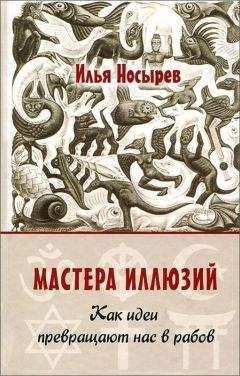Милленаризм не всегда становился знаменем той части общества, что жаждала прогрессивных перемен, — пример западноевропейской Реформации, которая во многом действительно стала выражением чаяний нарождающейся буржуазии, старавшейся высвободиться из пут утративших актуальность феодальных отношений, был спроецирован марксистами на другие милленаристские движения. Между тем раскол, представляющий собой прекрасный образец милленаристского движения, невозможно трактовать как форму, в которую вылилась жажда социального и научно-технического прогресса — прежде всего потому, что это движение объединило как раз тех, кто прогресс отвергал. При этом все формальные декорации налицо: Россия XVII века стояла перед необходимостью радикальных реформ, и всплеск эсхатологических ожиданий был во многом вызван борьбой между прогрессивно настроенной частью общества и теми, кто старался удержать традиционные устои. Милленаризм не может быть формой двух противонаправленных движений. Если форма так равнодушна к содержанию, не правильнее ли будет считать ее «эгоистичной», преследующей собственные цели, которые могут быть достигнуты через общественное движение?
Я не упомянул еще один интересный аспект логики милленаризма, который отмечает большинство исследователей. Милленаристские движения, как правило, чрезвычайно агрессивны по отношению к чужеземной культуре. Это не кажется удивительным, если брать лишь наиболее поздние движения, имевшие место в XIX–XX веках и носившие выраженный антиколониальный характер — нелюбовь к культуре белых означает ненависть к самим белым колонизаторам, и именно так трактуется это явление в этнографической литературе.
Однако такой подход мешает выявить закономерности, общие для всех милленаристских движений. Если мы попытаемся сравнить с культами карго, бурханизмом или Пляской духов три великих движения XVI–XVII веков, то увидим, что и они демонстрируют ту же приверженность к своей, исконной культуре и неприязнь к новым, обычно иностранным культурным элементам — будь то лексические заимствования, стиль одежды или формы политического устройства. При этом трактовать эту особенность как реакцию на национальное угнетение можно лишь в случае с саббатианством и отдельными течениями Реформации, где к религиозным мотивам конфликта примешивались еще и национальные (как в Нидерландах или, в меньшей степени, в Германии), — однако мы не сможем объяснить, почему такую антипатию к чужеземной культуре проявляют, например, старообрядцы. Московское царство середины XVII века было русским государством, и чувствовать себя национально ущемленными большинство русских просто не имело оснований; при этом критике культурных заимствований из Европы в старообрядческой публицистике уделено как-то уж слишком много внимания: осуждение немецкой одежды, курения табака или бритья бороды занимает едва ли не больше места, чем возмущение разложением церкви или тем паче социальной несправедливостью. Более глубокое объяснение антипатии к иностранной культуре дает Уорсли: по его мнению, это реакция на аккультурацию и связана она с развитием национального самосознания — мечтая о возвращении мифического золотого века, обращаясь к общим предкам и коллективно протестуя против иностранных заимствований, аборигены впервые почувствовали себя единым народом. И все же и это объяснение не кажется удовлетворительным: мы не можем связывать эту особенность милленаристских движений с процессом формирования наций, поскольку нация — гораздо более молодое явление, чем сами милленаристские движения.
Складывается впечатление, что именно страх перед культурными изменениями — будь то покрой одежды или нормы этикета — и наводит верующих на мысль, что мир движется к концу. И в старообрядческих сочинениях XVII века, и в западноевропейской публицистике XVI–XVII веков признаками надвигающегося конца служат именно зримые перемены: «В наше время (когда толкуют, что близится конец света) нашло на людей подлого звания поветрие, при коем страждущие от него, коль скоро им удастся награбастать и набарышничать толико, что они, помимо немногих геллеров в мошне, обзаведутся еще шутовским платьем по новой моде с шелковыми лентами на тысячу ладов или же иным каким случаем прославятся и войдут в честь, тотчас же восхотят они объявить себя господами рыцарского сословия и людьми благородного состояния», — иронизирует Ганс Гриммельсгаузен60. Но почему реакция на перемены так болезненна? Конечно, утрата социальной стабильности в ранний период Нового времени заставляла европейцев XVI–XVII веков ощущать определенную неуверенность — но достаточное ли это основание, чтобы считать, что общество находилось в состоянии кризиса? Это окажется неверным даже для России середины XVII века: раскол, вероятно, оттого и остается загадкой для исследователей, что найти серьезные и при этом сколько-нибудь общие для разных сословий, которые в нем участвовали, социальные причины не представляется возможным. В этот период русское общество находилось отнюдь не в более бедственном положении, чем, например, во время чумы или, тем более, Смуты, — при этом вплоть до раскола оно никогда не знало столь широко распространенных и острых ожиданий конца света61. Это наводит на мысль, что у раскола были скорее культурные причины, слабо связанные с социальными проблемами.
Если же брать Западную Европу XV–XVI веков, мы увидим, что страхи, которыми пропитана публицистика того времени, связаны не с ожиданиями каких-либо реальных бедствий, а, наоборот, с подъемом уровня жизни в ходе начавшегося социального и технологического переворота. В близость конца света верили столь разные люди, как Савонарола, Цвингли, Лютер, анабаптистские и пуританские проповедники, — и в их речах он неразрывно связан с признаками прогресса, которые они замечали вокруг. «Человек настолько углубился в изучение тайн, что сегодня юноша двадцати лет знает больше, чем прежде двадцать докторов. Мы знаем столько языков и всякого рода премудростей, что нужно признать: мир достиг небывалых высот в отношении усовершенствования земной жизни, или, как это назвал Христос, в отношении „забот житейских“, еды, питья, строительства, насаждений, покупок, продаж, женитьбы и замужества, посему всякий вынужден признать, что нас ждет либо погибель, либо перемены», — говорит Лютер в «Проповеди во второе воскресенье Рождественского поста», и тут же склоняется в пользу первого варианта: «Впрочем, непонятно, как могут прийти перемены. Дни сменяют друг друга, но все остается, как прежде»62. Сознание человека в начале Нового времени все еще не допускало мысли о возможности радикальных перемен.
А ведь перемены были уже на дворе — перемены, равных которым человечество еще не знало. И мы, вероятно, окажемся недалеко от истины, если сочтем, что кому уж действительно их следовало бояться, так это христианству как таковому, ведь ему на протяжении тысячи лет до начала Возрождения удавалось держать огромную территорию в культурной и социальной стагнации, тем самым создавая идеальные условия для своего существования. В шестой главе я говорил о том, что догматические религии стремятся минимизировать перемены в обществе, внушая своим адептам страх перед ними. Нам, современным людям, связь, возникающая в сознании средневекового человека между резким изменением моды и концом света кажется дикостью, но дело, конечно, не только во внешних атрибутах: бритые лица и курительные трубки вызывают страх, потому что, по убеждению старообрядцев, они отражают глубинные изменения мышления, поведения и этики. «Седмоглавый змий… видя в христианех невоздержание, наводит иностранные обычаи, дабы отлучить от Бога и отвести во дно адово. Присмотрися, возлюбленне, все бо христиане одеются одеянием странным и необычным: мужи и жены и девицы… И начнется в христианах иностранное любление, еже есть: глаголы, взоры, хождение, одеяние, о горе!»63 — в этих строках старообрядческой рукописи, созданной в царствование Петра Великого, проводится параллель между одеждой как внешней формой и новыми взаимоотношениями между людьми как содержанием этой формы — политес и куда большая свобода в отношениях между полами, укореняющаяся в высшем свете, не могли не вызвать ужаса и порицания приверженцев традиционного уклада жизни. Это было уже чревато вольнодумством и угрожало самой религии: вновь, как и в шестой главе, подчеркнем, это вольнодумство вызывало раздражение и желание бороться с ним отнюдь не у церковников, но прежде всего у мирян.
В такой негативной реакции на перемены вроде бы нет ничего нового: это проявление консерватизма, свойственного человеку на всем протяжении истории. Однако люди древности, вероятно, были все-таки более любопытны к новому: известно, что даже греки, презиравшие тех, кого считали варварами, живо интересовались их обычаями, историей и известными у них изобретениями. Общество европейского Средневековья в этом плане гораздо более замкнуто и агрессивно по отношению к чужеземному: я уже говорил о том, что монотеистическим религиям удалось настроить своих носителей на отторжение всего чужеродного, не вписывающегося в их религиозные представления. Анонимный автор старообрядческой рукописи «О древнем обряде» дал блестящий образец критики современного ему общества, позволяющий проследить логику неприятия человеком Средневековья новых культурных парадигм: «Посмотрим же, сих обычаев ношениев одеяний начало, откуду влечется, от древности или от новости. Но если в древность вникнем, — в древности, кроме противников, сего не обретаем. Аще ли в новость око обратим, богато изобильную тем созерцаем: от себе внове затеяшася и от иных стран собрани видятся привзятыя. Откуда находятся одежды черкесския, аще не внове проистекшия узрешася? Откуда прилетеша к нам разлетай — картузы и асковы — шапочки, аще не от чуждих стран? Откуда к нам заидоша сапоги немецкия и курпы, аще не от иных границ? Откуда из — тиха подкатились башмаки высокоустроенныя, различными переводами ухищряемыя, аще не от западных стран? Откуда возвеяло всякое немецкое платье на бедныя россияны и яко геенскою облече мглою, аще не от люторов и калвинов — адских жителей? …Откуда влас долгих ращение? Откуду кос мужескому полу и париков ношение? Откуда всяких иностранных прелестных и мерзостных не точию Богу, но и всякому боголюбивому мужу скверное обычаев употребление тако спешно вскочи в российския сыны и дщери аще не от западных краев света? От них, яко закону их навыкоша тако и обычаю их научишася»64. В этом фрагменте четко просматриваются несколько оппозиций, которые автор рассматривает как одну: «древнее-новое», «наше-чужое» и «правильное-неправильное». Древнее воспринимается как данное изначально и потому правильное, нуждающееся в сохранении и воспроизводстве. Новое, по мнению автора, не может быть созданным «у нас», в нашем отечестве — ибо ничего абсолютно нового, исходно не бывшего, в мире вообще не может возникнуть: единственный источник, откуда может появиться новый предмет, обычай, обряд, — это чужие земли. Иными словами, древнее всегда наше и хорошее, а новое всегда чужое и плохое. Такой принцип восприятия является одним из ключевых не только в старообрядчестве (уже самоназвание которого — «древлеправославие» — говорит само за себя), но и в большинстве течений Реформации, которые стремятся к борьбе с новыми, привнесенными извне элементами, к возвращению «золотого века».