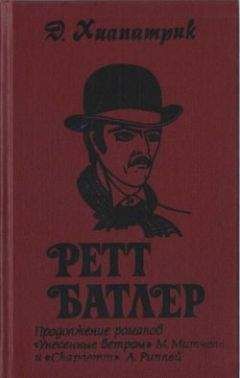смерти, а может осуществляться, например, как деконструкция сингулярности, что означает, что «я» уже подвержено изменчивости, которую оно не всегда может контролировать. Здесь Батлер соглашается с Антонио Негри, согласно интерпретации которого, форма социальности у Спинозы – множество, которое не преодолевает и не поглощает сингулярность, и не является синтетическим единством. [148] В результате личность/
she, которая стремится сохранить свое собственное бытие, обнаруживает, что это бытие не является исключительно ее собственным. «Спиноза, – констатирует Батлер, – предлагает принцип деконституирования субъективности, который показывает, что для того, чтобы оставаться частью борьбы за жизнь, не обязательно становиться успешным как самоубийца или убийца». [149]
Субъект, деконституированный таким образом, совершает свой этический выбор в ситуации, которая не предполагает возможность однозначного решения, например решения пожертвовать своей жизнью, а является, в терминах Лаклау и Муфф вслед за Деррида, выбором в ситуации неразрешимости, которую Батлер относит к типу этики, которую она называет «этикой под давлением», или «этикой под напряжением». Этику под напряжением Батлер определяет как совокупность подходов к этике, «которые уважают желание без того, чтобы прийти к эгоманиакальной защите своего собственного желания, уважают влечение к смерти без того, чтобы оно проявилось как насилие по отношению к себе или другому» [150] и выделяет несколько форм этой этики, которые могут быть 1) сконструированы как борьба или 2) как такие, которые имеют в качестве своего условия скорее «беспокойство», чем убеждение.
По-видимому, этику под напряжением Батлер можно отнести к варианту неклассической этики, используя различие классической и неклассической этики Аленки Зупанчич, которая в ее интерпретации так же, как и у Батлер, связана с экзистенциальной характеристикой беспокойства, а не тревоги и которую она в лакановских терминах определяет как этику Реального. [151] В интерпретации Зупанчич, классическая и неклассическая этика представляют две различные модели поведения субъекта в ситуации принудительного выбора. Базисным условием возможности этического поступка в традиционной этике является возможность в ситуации принудительного выбора пожертвовать своей жизнью – ради жизней «невинных других». Таким образом, главной и неизбежной ставкой классической этики, по мнению Зупанчич, является смерть: ведь именно готовность субъекта на спасительную смерть ради других в пределе является ценой возможности этического акта как такового. В неклассической этике такой выход невозможен, поскольку выбор в этом контексте – это не ситуация продуктивного сомнения, а ситуация, которую она определяет как ситуацию террора невозможного, то есть нечеловеческого выбора.
Зупанчич приводит следующий пример двух (классической и неклассической) стратегий принудительного этического выбора: представим, пишет она, – и эта ситуация является архетипической – что герой попадает в руки врагов, которые под угрозой смерти требуют, чтобы он или она предал/а своих товарищей. Сталкиваясь с таким выбором, герой, как правило, следует максиме «лучше умереть, чем жить предателем». Этот пример и есть пример классического этического, согласно Канту, решения как выбора в пользу смерти. [152]
Однако Зупанчич предлагает рассмотреть тот вариант принудительного этического выбора, который свойствен современной этике Реального, приходящей на смену классической этики. Основное отличие современной этики Реального от классической этики состоит в том, что, во-первых, субъект принудительного этического выбора лишен самой возможности умереть в рамках понимания жертвенной смерти как традиционно высшей этической ценности, во-вторых, когда смерть вообще перестает быть этической ценностью, ибо этика Реального, которая соответствует логике Реального – это этика влечения как прибавочного наслаждения, в которой вообще меняется значение традиционных (гегелевских) конфигураций жизни и смерти.
Итак, представим, предлагает Зупанчич, что «враги» достаточно умны, и они ставят героя перед совсем другим выбором, в котором смерть может показаться всего лишь облегчением, а не «максимой господина» традиционной классической этики. Данная ситуация достаточно часто описывается в литературе. Например, враги захватывают какое-либо «невинное существо» и угрожают подвергнуть пытке и убить уже не героя, но именно это «невинное существо» (его или ее), если герой не предаст своих товарищей. Таким образом, герой этического принудительного выбора лишен самой возможности умереть: если she умрет, то будет убито и «невинное существо».
В этой ситуации герой, как правило, замечает Зупанчич, «сдается» определенным образом: чаще всего он или она предает своих товарищей, чтобы спасти «невинное» существо. Субъект просто не выдерживает бремени того выбора, к которому его или ее принуждают «враги», – дать погибнуть невинному существу. Такая ситуация (дать погибнуть невинному существу) в любом случае обрекает субъекта на разновидность, по выражению Зупанчич, «героической монструозности» в качестве «нечеловеческого» выбора. Тем не менее в рамках этики Реального, в отличие от классической этики, герой принудительного этического выбора не становится при этом просто предателем. «Таков урок подобных историй, – заключает Зупанчич, – гуманность субъекта конституирует предел его этики и долга. Если герой не может выполнить свой долг ценой своей «гуманности», он не может быть виновным в моральном преступлении». [153] Другими словами, обрекая на гибель «невинное существо» или осуществляя акт предательства (своих товарищей), герой в ситуации встречи с Реальным тем не менее остается, по мнению Зупанчич, этическим субъектом: ведь субъекта оправдывает то, что she (она или он) находился в ситуации террора как ситуации нечеловеческого принудительного выбора.
В «этике под напряжением» Батлер этическое также не достигается суицидальным действием, так как в ней не применима логика оппозиций (обладание/необладание, активное/пассивное), а субъект всегда выступает как побочный продукт действия, как вещь, в которой she не способен узнать себя как «я». Как бы интенсивно субъект не осуществлял самоубийство, оно не может быть прочитано в терминах классической этики и представлено как акт индивидуального действия или выражение героического индивидуалистического перфекционизма (например, по модели Сократа, сделавшего гордую одиночную смерть основной максимой классической этики [154]).
В качестве примеров Батлер приводит смерть Георга в «Приговоре» Кафки, бросившегося с моста в реку после слов отца «я приговариваю тебя к казни водой», которую невозможно маркировать однозначно как самоубийство или как убийство. Смерть Примо Леви, например, которая обычно расценивается как самоубийство (он бросился с лестницы), мы, учитывая его концепцию вины, по мнению Батлер, никогда не сможем однозначно определить, – действительно ли он сделал это сам или был какой-то побудивший его внешний толчок, который он мог воспринять как обязанность осуществить самоубийство.
Ситуацию смерти Леви Батлер интерпретирует, исходя из его определения самоубийства как действия, которое «рождается из чувства вины, которое не может ослабить никакое наказание». [155] При этом вина парадоксальным образом понимается Леви именно как причина наказания, когда «если есть наказание, то должна быть вина». Преимущество такого понимания вины заключается, по мнению Батлер, в том, что оно позволяет избежать необходимости принять полную контингентность и произвольность насилия над she. [156] Легче, когда