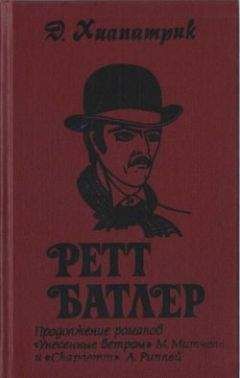не могут пойти; существуют высказывания от первого лица, которые они не могут составить; пути, на которых они не могут знать или поддерживать себя как «я». [266]
Тем не менее в анализе отношений колонизируемого и колонизатора Батлер стремится избежать ловушек бинарной логики «колониальной драмы», осуществляющейся по схеме или-или, и поэтому анализирует идентичности колонизаторов и колонизируемых как идентичности нехватки одновременно. В частности, если тела колонизируемых в ситуации колониальной драмы – это, по выражению Батлер, тела, «мобилизующие раны», реагирующее на каждое слово колонизатора как на удар хлыста и разрывающиеся между «убежденностью в своем несуществовании и переполненностью понятием о своей будущей власти», [267] то колонизующий субъект также переживает процесс становления телом, атакуя другого из страха утраты абсолютной власти именно над тем человеком, которого он не признает как человека и действительно становясь при этом «хлыстом и винтовкой» (как образно выражается Батлер, ссылаясь на известное высказывание Сартра о том, что колонизатор «уже неспособен вспомнить, что когда-то он был человеком, и [поэтому – И.Ж., С.Ж.] относится к себе так, как будто он есть хлыст и винтовка» [268]). И если «мобилизующие раны», которые не проходят через рефлексию раненного, не дают состояться субъективности колонизируемого в терминах самосознания, то у колонизаторов рефлексивность осуществляется в форме вызывающего «тошноту» (сартровское, хотя придуманное не им, а его издателем выражение) аффекта отвращения к себе: «Что же мы с собой сделали!». [269] В результате стыд и страх психологически расщепляют личность не только колонизируемого, но и колонизатора. Каждое из этих двух «я» становится негативностью, то есть субъективностью вне структуры идентичности, считает Батлер. [270]
Отсюда сартровское определение экзистенции как, с одной стороны, «чистой негативности», в частности в форме тревоги, которая, с другой стороны, оказывается свободой как продуктивной негативностью. «Именно в тревоге человек, – по словам Сартра, – имеет сознание своей свободы, или, если хотите, тревога является способом бытия свободы как сознания бытия: как раз в тревоге свобода стоит под вопросом для самой себя». [271]
Определение негативности экзистенции через тревогу позволило Сартру осуществить деконструкцию не только элитистской экзистенциальной стратегии хайдеггеровской фундаментальной онтологии как стратегии героической «решимости», но и деконструировать постхайдеггерианскую экзистенциальную стратегию сопротивления, базирующуюся на кожевианской интерпретации гегелевской диалектики раба и господина. Включив в сферу сакральных мест философии – «торных троп», «Шварцвальда» и т. д. не только кожевианско-гегелевского раба, но и фигуры, относящиеся к периферийному экзистенциальному опыту – «идиота, ребенка, дикаря, иностранца», [272] Сартр ещё до Фуко не только нарушил гегемонию в сфере экзистенции западноевропейской культурной элиты – хайдеггеровских элитистских фигур Поэта и Мыслителя, «предположительно знающих», «что значит находиться на тропах бытия», – но и проблематизировал героический проект «бытия-к-смерти», деконструировав базисную трагико-героическую дихотомию раба и господина, множества и суверена. Как пишет Роберт Янг в статье «Сартр: «африканский философ»», являющейся предисловием к изданию антиколониальных работ Сартра, «проработка Сартром Гегеля позволила ему показать власть как диалектический феномен, что мучитель и мученик, расист и жертва, колонизатор и колонизируемый, угнетатель и угнетенный заключены в симбиотическую связь, в которой первые не могут избежать последствий своих отношений со вторыми». [273] С другой стороны, определив в Бытии и ничто негативность экзистенции как негативность тревоги, Сартр проблематизировал также экзистенциалистский протестный проект, показав, что негативность протеста не имеет никакого другого содержания, кроме чистой негативности, которая является специфическим сознанием свободы как чистого наслаждения – в отличие от кожевианской версии гегелевской диалектики раба и господина, разворачивающейся исключительно в поле «признания» с его включенными и исключенными.
С другой стороны, Батлер фиксирует тот логический парадокс, что негативность тревоги или «беспокойства» [274] не противоречат «сознанию свободы», сформулированному новым постколониальным гегемонным дискурсом: в этом смысле можно сказать, несколько перефразировав известное высказывание Вильгельма Райха, что массы никогда не бывают обмануты – они всегда желают своей тревоги, проявляющейся в поиске новых постколониальных лидеров и нехватке Другого. Как показывает Батлер, сартровский постколониальный «гуманизм» и «постколониальная этика» неизбежно опосредованы насилием, которое выступает одновременно и выражением основополагающей негативности (в том числе психологической) идентичности, и условием субъективации как «способом дать бытие человеческому». Парадокс субъективации у Сартра состоит (как отчетливо видно из его пьес) в том, что Другой – всегда ад («ад – это другие»), но именно Другой у Сартра делает человека субъектом. В качестве субъекта «свободный» индивид размещается в рядах угнетателей. Непрерывная психо-аффективная борьба за то, чтобы быть, по мнению Батлер, может привести к гуманизму, «утопающему в крови». [275]
Уже в Гендерной тревоге (1990) Батлер выявляет угрозы скрытого насилия в практиках так называемых новых социальных движений, а в современных условиях откровенного прямого военного насилия Батлер в книгах Отдавать отчет о себе (2005), Хрупкая жизнь: власти траура и насилия (2006), Фреймы войны: когда жизнь является горестной? (2009) и Пути разошлись: еврейскость и критика сионизма (2012) ставит вопрос о возможности ненасилия как неутопическом проекте, который не может состояться в рамках существующей сартровской либеральной (и маскулинистской) модели гуманизма.
В этом контексте она прямо противопоставляет Сартра и Фа-нона, потому что, по мнению Батлер, именно Фанон направлен на достижение не более радикального различия между колонизированным и колонизатором, а более радикального равенства между ними и выход за пределы привычно установленных оснований гуманизма в виде отказа от идентичностей, основанных на нации, гендере и др. [276] Теоретический проект Фанона, по мнению Батлер, созвучен не «снам об агрессии и действии», но проекту онтологии хрупкостности «интерсубъективного соглашения» как ситуации такой двойственности субъективного и интерсубъективного, которая не позволяет субъекту быть редуцированными ни к собственному индивидуализму, ни к полному слиянию с другим.
Методология «интерсубъективного соглашения» разрабатывается итальянским философом Адрианой Кавареро, которая ориентирована на онтологическую возможность взаимодействия не на основе отношений кожевианского признания, в которых «мы противопоставлены друг другу, требуя признания, которое замещает признающего признаваемым»: [277] ведь оба тела, по словам Батлер, одинаково хрупки и незащищены. Кавареро также обращает внимание на то, что любые субъективности, любые «мы» – это существа, которые по необходимости выставлены [курсив наш – И.Ж., С.Ж.] друг перед другом в их психологической уязвимости и сингулярности. Поэтому она считает, что политический анализ сегодня состоит в изучении того, «как лучше всего справиться с постоянной и необходимой незащищенностью, при этом не потеряв к ней уважения?». [278]
Отсюда значимость развиваемого Кавареро проекта онтологии хрупкостности и альтернативной по отношению к гегелевско-кожевианской концепции этики признания «этикой касания другого». Она предлагает способ адресации по отношению к другому как возможность жизненной экзистенции [279] в качестве практик радикального равенства. [280] А