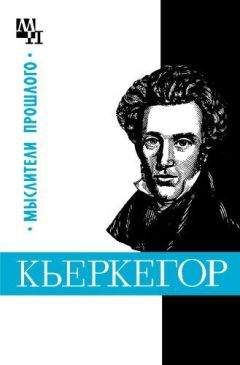может быть рационален. В котором мы не можем ничего взвесить и рассчитать.
Вот Сартр в своей лекции «Экзистенциализм – это гуманизм» приводит очень известный пример о том, что такое экзистенциальный выбор. Он вспоминает, что, когда он участвовал в движении Сопротивления во время оккупации Франции, к нему за советом пришел юноша, его ученик, и спросил, что же ему делать. У юноши была такая ситуация: у него больная старая мать, но, с другой стороны, он хочет бороться с нацистами, поскольку они поработили его родину, убили его брата. Но у старой своей матери он – теперь единственный сын, ее опора и утешение. И вот он не знает, что ему делать. То ли ему, грубо говоря, пойти в Сопротивление, с риском на войне погибнуть, и тогда несчастная мать останется одна, и ей будет плохо; или же его главный долг перед матерью и плевать на Сопротивление и порабощенную Францию? И понятно, что в такой ситуации никто за человека не может решить. Как тут взвесишь, как рассчитаешь? Вот что такое экзистенциальный выбор. Тут нельзя взвесить: с одной стороны – счастье матери, с другой стороны – свобода Франции. То есть, как вы видите, это выбор фундаментальный. Выбор себя в мире, а не внешних вещей. Выбор дорефлексивный, который невозможно рационально просчитать.
О свободе у Сартра я еще сегодня, конечно, скажу. Но важно, что свобода по Сартру – это не атрибут, а сама суть человека. Человека как Ничто. Свобода, человечность, осознанность и ответственность – это одно и то же у Сартра. Можно отвернуться от осознания, но тогда человек утрачивает свободу и перестает быть человеком. Становится вещью, частью мира Бытия-в-себе, бездумного и инертного.
У Сартра еще есть такое понятие, как модусы экзистенции. То есть различные проявления нашей человеческой субъективности. И Сартр приводит ряд модусов, то есть проявлений: заброшенность, тошнота, ужас, виновность. Они вам уже немного знакомы. Поэтому я по ним пробегусь лишь скороговоркой. Это фундаментальные характеристики нашей экзистенции. По поводу заброшенности Сартр говорит так. Вот мы оказались внезапно в огромном театре мира. Театр раньше нас начался, после нас кончится. Мы не знаем, кто режиссер в нем, в чем суть и цель представления, каков жанр играемой пьесы. Драма? Фарс? Оперетта? Трагедия? Мелодрама? Водевиль? Но, ничего этого не зная и не по своей воле оказавшись на этой странной и страшной сцене, мы должны играть!
Как говорит Сартр, «не по своей воле мы рождаемся и не по своей воле уходим». Человек уже находит себя на сцене. Сартр как заклинание повторяет (и в философских сочинениях, и в пьесе «Мухи», и в других произведениях), что «человек обречен быть свободным». Свобода у него, как вы уже почувствовали, не какой-то сладкий пряник – это тяжелая и невыносимая ноша. Тотальная свобода – тотальная ответственность. Почему обречен? Казалось бы, не хочешь – не будь. Но Сартр говорит, что на свободу нас обрекают только две несвободы: рождение и смерть. Я не могу не родиться, и я не могу не умереть. Я уже здесь. Во многих культурах, у греков, индусов, как вы знаете, рождение – это трагедия, несчастье, катастрофа. Помните античный миф, как царь Мидас изловил бога Пана, спутника Диониса, и спросил его, в чем состоит счастье человека. На что бог Пан жутко рассмеялся и сказал: «Счастье вам, смертным, недоступно. Счастье – это вовсе не родиться. А второе после этого – родившись, сразу умереть». Вот греческий взгляд на счастье. Можно вспомнить и строки великого поэта Востока, мистика-суфия Хакани о том же: «Моя мудрая, новорожденная дочь, увидев, что мир этот – место плохое, ушла». Но это великое счастье не быть обреченными на рождение и заброшенными в бытие, нам недоступно, мы уже здесь. Мы уже заброшены. Иногда маленькие дети просят: «Мама, роди меня обратно!» Но это, увы, невозможно. По словам Фромма, рождение – величайшая травма, фрустрация и катастрофа для каждого человека: выход в чуждый мир из материнского чрева. И мы не можем не умереть. Мы приговорены, неведомо кем, к рождению и к смерти. В этом, и только в этом мы не свободны. (Человеческая свобода в философии Сартра, как и вообще в экзистенциализме, неразрывно связана со смертью.) Человек – это, как сказал Хайдеггер, бытие-к-смерти. Мы родились, и не родиться невозможно. И не умереть тоже. Это две вещи, в которых мы несвободны. Но во всем остальном именно поэтому мы абсолютно свободны. Наша несвобода в рождении и смерти обрекает нас на свободу во всем остальном. То есть на тотальную осознанность и тотальную ответственность. Вот это – модус заброшенности.
Замечу, что отсюда с очевидностью следует, что отказ от свободы – это тоже свободный акт. Отвернуться от свободы, как от смерти, можно, но нельзя от нее уйти и уклониться. То есть я свободно решаю быть несвободным. Я свободно, рационально (или, чаще, дорационально) решаю, что я – не я. Я снимаю с себя ответственность: я – член партии, я – представитль нации, я почему-то горжусь тем, что не является моим выбором и моей заслугой, но навязано мне нелепым фактом случайности рождения. Я горжусь тем, что у меня такой-то пол, такая-то национальность или статус, что я – мужчина, я – чиновник номер пятьдесят шесть в такой-то иерархии… Но и тогда я осознанно решил не быть человеком. Или неосознанно. Но очень важно, что сам акт отказа от свободы – это тоже свободный акт. Свободу легко потерять, но потеря свободы – это тоже проявление свободы.
Затем другие модусы. Тошнота, я уже говорил, это когда человек встречается с миром. Нас всегда слишком мало, мира всегда слишком много. Вот это очень важно. Возвращаясь к первому сборнику рассказов Сартра. О чем все эти рассказы? О том, что человек хочет стать кем-то – и перестает быть собой. То есть уникальным и вечно неопределяемым творческим Ничто, мучимым жаждой определенности и укорененности в бытии. Свобода – это не то, чем можно обладать.
Почему образ Чаши Данай – это образ человеческой судьбы? Потому что вода все время утекает. То есть мы делаем выбор; в этом выборе свобода реализуется – и умирает. Мы играем роль; эта роль становится нами, и она нас порабощает. И надо снова и снова отрывать прилипшую маску с лица. В этом трагедия человека: мы хотим укорениться в бытии, но как только мы в нем укоренимся, мы перестанем быть собой. И мы колеблемся между пустотой и избыточностью. Пустота