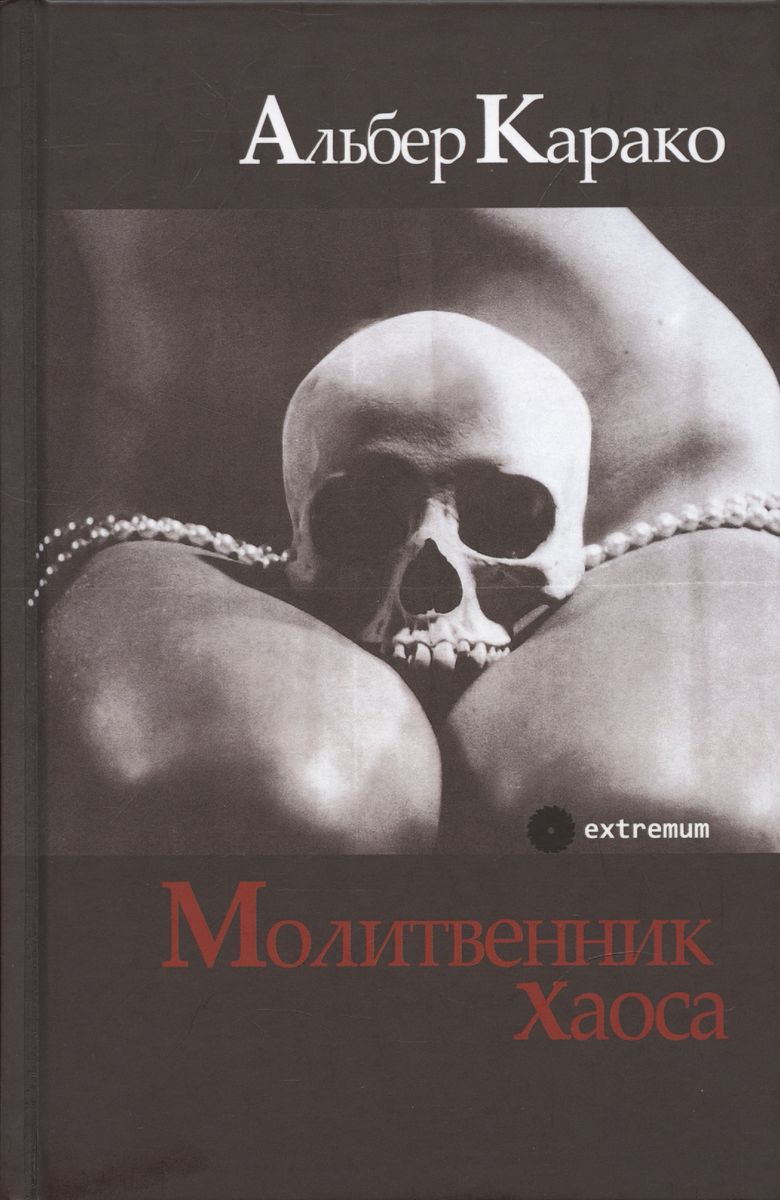и смрада. С каждым оборотом колеса растет цена на землю, и в лабиринте, поглощающем свободное пространство, доход от вложений день за днем возводит сотни стен. Ибо деньги должны работать, а наши города — идти вперед, с каждым новым поколением высота зданий всё еще увеличивается вдвое, и настает момент нехватки воды. Строители думают избежать той судьбы, которую они нам готовят, и уезжают жить в деревню.
Мир закрылся, как в эпоху до Великих географических открытии, 1914 год ознаменовал наступление нового Средневековья, и мы оказались в месте, которое гностики называли тюрьмой нашего вида, в конечной вселенной, из которой нам не сбежать.
Вот вам и весь оптимизм, который питали столькие европейцы четыре века подряд, в Историю возвращается Фатум, и мы вдруг спрашиваем себя, куда мы идем, и во всём, что с нами происходит, нас начинает беспокоить вопрос «почему?», испарилась милая вера наших отцов в бесконечный прогресс, а с ним и в жизнь, которая становится всё человечней: мы холим кругами и уже не можем понять даже наши собственные творения.
Наши творения нас превосходят, а мир, преображенный человеком, в очередной раз ускользает от его понимания, более чем когда-либо мы строим в тени смерти, которая унаследует наши анналы, и близится час разоблачения, когда наши традиции спадут одна за другой, как одежды, оставив нас перед судом обнаженными, голыми снаружи и пустыми внутри, с бездной у наших ног и хаосом над нашими головами.
Человек и свободен, и связан, и более свободен, чем желает, и более связан, чем думает, ибо толпа смертных состоит из спящих и порядку нет пользы от их пробуждения, ведь, проснувшись, они бы не подчинились. Порядок не друг человеку, он не столько руководит им, сколько распоряжается, и почти никогда не очеловечивает.
Порядок не безупречен, и настает день, когда его ошибки исправляет война, именно порядок, приумножая ошибки, отправляет нас на войну, которая кажется неотделимой от будущего. Такова единственная уверенность: смерть, говоря просто, есть смысл любой вещи, и человек, как, впрочем, и целые народы, есть вещь перед лицом смерти, История есть страсть, жертвой которой пали миллионы, а обитаемый нами мир есть Ад, смягченный небытием, где человек, не желая себя познать, предпочитает собою жертвовать, — как те животные виды, которых слишком много, как рои саранчи, как полчища крыс, — полагая, что величественней будет умирать, умирать без конца, чем наконец взглянуть в глаза миру, в котором он обитает.
Наша молодежь чувствует себя обреченной и поэтому в университетах волнения, — и молодежь права, а мы ошибаемся и готовим ей новую войну.
Порядок и война связаны, наша мораль это понимает, достаточно вспомнить учения великих моралистов: такова наша единственная уверенность, и мир без войны невообразим, порядок бы в нем не устоял. Наша молодежь уяснила это отношение удобства, она осознала связь между нашими ценностями и своими несчастьями, и это открытие уже не отменить.
Парадокс состоит в том, что, будучи права, наша молодежь ошибается, ибо в этом мире, которому угрожает однообразие, народы не современны друг другу, и еще достаточно стран, где молодежь готова жертвовать собой. Неужто наша молодежь думает, что довольно объявить о мире здесь, чтобы об этом услышало всё человечество? Мы в Аду, и мы выбираем только между двумя ролями: либо мы приговорены к мукам, либо мы — черти-мучители.
Наш век — к смерти, а смерть — над нами, у нас довольно средств, чтобы убить каждого раз по сорок, мы уже не знаем, куда девать оружие, зданий не хватает, мы стали дырявить горы и копил? смертоносные орудия в недрах земли.
Наша ойкумена подобна арсеналу, и десятки миллионов людей пашут во славу смерти, но мы и не думаем порывать с условиями, в которых мораль и интерес сколотили союз, и завтра наша молодежь расплатится за этот парадокс, она его чует, она негодует, и мы не можем обещать ей чуда, мы даже поучать уже не решаемся, мы чувствуем, что она приговорена и что никаким революциям не измени ть ее участь. Слишком поздно, Историю не остановить, она нас уносит, и направление, которое она приняла, не дает надежды на замедление, мы несемся к вселенской катастрофе, и в мире полно людей, которые ее желают и будут желать всё больше, чтобы избежать всё более абсурдного порядка, поддерживаемого лишь наивной верой в последовательность и — как следствие — человечность человека.
Мы живем для смерти, мы любим для смерти и для нее же плодимся и горбатимся, наши труды и дни отныне протекают в тени смерти, а наша дисциплина, наши ценности и проекты все сходятся в одной точке — в смерти.
Смерть нас сорвет, как спелые плоды, мы поспеваем для нее, и наши племяшки, которые останутся всего лишь горсткой людей на объятой пеплом поверхности ойкумены, будут проклинать нас, поджигая последние объекты нашего почитания. Не узнавая смерть, мы почитаем ее под многими личинами, наши войны — жертвы во славу смерти, мы жертвуем собой ради посмертной чести, наша мораль — это школа смерти, и наши добродетели, которыми мы так гордимся, навсегда останутся только добродетелями смерти. Выхода нет, мировой порядок не изменить, мы обречены нести на плечах ношу, которая нас сокрушит, опираясь на то, что лишает нас цельности, остается либо гибнуть, либо губить, прежде чем умереть самим, и, будь это мои последние слова, я всё-таки гордо скажу, что третьего не дано.
Ад, что мы носим в себе, отвечает Аду наших городов, они отражают наше мышление, жажда смерти направляет ярость жизни, и мы не можем различить, которая из двух движет нами, мы бросаемся за позабытые начинания и кичимся достигнутыми успехами, мы одержимы чрезмерностью и, не сознавая самих себя, вечно строим и строим.
Вскоре мир станет одной большой стройкой, где подобные термитам миллиарды слепцов пашут в пыли и поту, в рокоте и смраде, как роботы, пока однажды не проснутся, безумные, и не станут без устали резать друг друга. В грядущем мире безумие будет той формой, которую примет спонтанность человека отчужденного, одержимого, которого превзошли его орудия и поработили его творения. Безумие пустило побеги под нашими пятидесятиэтажными домами, и сколько бы мы его ни выкорчевывали, нам его не одолеть, оно — новый бог, которого нам уже не одомашнить в каком-нибудь культе: всем своим существом оно требует нашей смерти.
Когда захотят узнать, каковы были наши истинные боги, о нас будут судить по нашим творениям, а не по