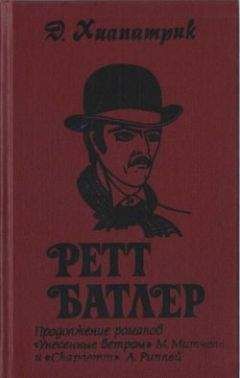ее мнению, в отличие от онтологий индивидуализма, субъективность понимается как коллективное тело, характеризуемое отношениями взаимозависимости и взаимосвязанности, которые в свою очередь выступают условиями взаимососуществования и взаимоподдержки. «Тело как момент онтологического требования, – формулирует Батлер, – это зависимость от других тел и сетей поддержки. Тогда понятно, что не совсем правильно понимать индивидуальные тела как совершенно отличные одно от другого. Конечно, они не смешаны в некоторое аморфное социальное тело, но если мы концептуализируем политическое значение человеческого тела без понимания этих отношений, то мы утрачиваем тезис о том, что тело, несмотря на его ясные границы, определяется отношениями, которые делают его собственную жизнь и действие возможными». [47]
Хиазматическая космология и онтология двойственного Батлер как основа этической концепция отношенчества («отношенческие социальные онтологии») теоретически перекликаются с так называемой «этикой сожительства» (в терминах Ханны Арендт) [48]. В качестве индивидов мы, конечно, пишет Батлер, стремимся выбирать, с кем нам сосуществовать в этом мире, а с кем нет, – чтобы лучше его контролировать. Однако верная онтологии двойственного Батлер утверждает, что отношения контроля в радикальной форме могут быть доведены до политик геноцида – как это показывает Арендт в книге Банальность зла, определяя Эйхмана как того, кто хотел выбирать, с кем ему сожительствовать на Земле, а с кем – нет. В результате Эйхман оказался неспособным принять гетерогенность человечества как неизбежное условие социальной и политической жизни. [49]
В противоположность онтологии индивидуализма Батлер настаивает на том, что существуют «формы соседства, близости, совместной жизни, сосуществования, которые являются радикально не выбираемыми. Они конституируют базисные формы социальности, в которые никто не вступает договорным (выделено нами – И.Ж., С.Ж.) образом, которые конституируют социальные условия жизни, на которые мы никогда не соглашались и которые глубоко безразличны к нашему согласию». [50] Эти базисные, по ее мнению, формы социальности служат не только препятствием индивидуальной самореализации, но и могут выступать условием социальной солидарности нефашистского типа – «на основе «мы», условия которого страстно связаны вместе: гневно, жаждуще, убийственно, любяще». [51] Направленное против онтологии индивидуализма отношенчество – «это фрейм для рассмотрения аффектов, инвариабельно артикулированных в политическом поле – таких, как страх и гнев, желание и утрата, любовь и ненависть». [52]
В то же время космология хиазма и онтология двойственного Батлер дистанцируются не только от телеологической космологии (Платон), но и от традиционной феминистской точки зрения на тело, где тело противопоставляется духу. Как отмечает Батлер, в феминизме часто звучит старый аргумент о значимости материализма в феминистской теории, а именно – что тело полагается первоначальным по отношению к знаку. Почему? Потому что существует общепринятая точка зрения (кстати, в том числе и в постсоветской литературной критике), [53] согласно которой постструктурализм редуцирует всю материальность к лингвистическому содержанию, в то время как феминисткой теории необходима материя, понимаемая как объективная реальность. Например, когда тела стоят на улицах в ситуации стачки, протестного марша или осуществляют практики психотерапии, они выступают как необходимая предпосылка феминистской практики, репрезентирующая нередуцируемую материальность тела.
Однако парадокс состоит в том, что прославляемые в феминистской теории материальность и тело, определяемые как первичные по отношению к сигнификации (обычно говорят о «позитивном отношении к телу»), уже представляют собой эффект сигнификации, напоминает Батлер. Другими словами, феминистский, как и любой другой активизм упускает из виду эффект одновременности сигнификации и материальности означающего.
В этом контексте позиция Батлер ближе феминистской трактовке тела и письма Люс Иригарей, отвергающей традиционную для феминистской теории редукцию женского к телесному. В то время как в традиционной феминистской теории тело фигурирует как фемининное, а женское ассоциируется с материальностью (являясь инертным, почти что мертвым и поэтому плодородным, вечно живым и порождающим), Иригарей хочет показать, что фемининное – это именно то, что исключается в этой бинарной оппозиции и посредством нее.
По словам Батлер, «кажущееся безумие» Иригарей с её концепцией «двух губ» указывает не на мастурбацию или лесбийскую сексуальность (конечно, не исключая ни первого, ни второго), но на отсутствие онтологии соперничества по очень необычной схеме функционирования этих самых «губ». Схема такая – «ты не во мне»» [54]. Отсюда следует батлеровская критика матрицида, симбиотически склеивающего различия.
Иригарей, отмечает Батлер, выводит из понятия хиазма Мерло-Понти не только 1) знаменитую теорию двух губ («ты не во мне»), но и 2) стратегию мимесиса как чтения и феминистских, и философских текстов. И в тех, и в других она стремится реализовать практики пародии как функции отношенчества. Например, Батлер утверждает, что тексты Иригарей и Мерло-Понти взаимодействуют как «две губы», при этом Иригарей разыгрывает и аллегоризует определенный вид хиазма или онтологии двойственного Мерло-Понти (можно сказать иначе – хиазма плоти). Ведь любой философский текст стремится разыгрывать теорию плоти, которую он также исследует, выстраиваясь как герменевтическая циркуляция, от которой он не может освободиться и в которой он вполне преднамеренно остается. «Чтение Иригарей главы «Переплетение – Хиазм», – пишет Батлер, – ее зависимость от теоретизации тактильных, визуальных и лингвистических отношений текста как хиазма кажется абсолютной. У нее нет мышления вне этих терминов. Это вовлекает ее в захватывающий double bind, а именно – в мышление против хиазма, осуществляющееся в его терминах, в попытку эксплуатировать его термины, которые она также стремится повернуть против него в стремлении открыть пространство сексуального различия, которое, как она верит, этот текст стремится стереть». [55]
Но почему, спрашивает в то же время Батлер, Иригарей прочитывает «плоть мира» как диффузию материнского? Почему мы должны редуцировать плоть мира, то есть мира чувственно привязанной сигнификации к материнскому телу? Не является ли этот жест Иригарей практикой редукции онтологии двойственного, превращения ее в онтологию индивидуализма, спрашивает Батлер? [56]
В отличие от Иригарей, Батлер и предлагает понятие социального тела, понимаемого как нередуцируемый хиазм.
Определим более подробно понятие хиазма и онтологии двойственного у Батлер.
Во-первых, это сплетение живого и мертвого. Например, Антигона у Батлер – живой мертвец: ведь любовь Антигоны к тем, кого она любит, – это одновременно и невыносимая судьба становления мертвой, оставаясь живой. [57] В то же время, в отличие от известной интерпретации Антигоны как живого мертвеца у Лакана, Антигона Батлер помещает себя в суицидальное отношение к символическому порядку, переутверждая этот порядок как установленный (в том числе переутверждая отношения традиционного родства). [58]
Если в этом контексте вспомнить теорию любви Гегеля, то Гегель (в анализируемом Батлер раннем фрагменте «Любовь»), в отличие от концепции батлеровского хиазма, утверждает, что «настоящая любовь» – это «живой союз», который всегда осуществляется между личностями, равными по силе. Более того, никто