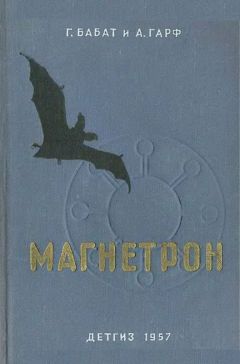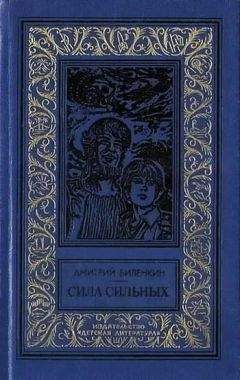На одной из полян среди пожелтевшей травы ясно выделялся посадочный знак «Т». Самолет снизился и побежал по скошенной траве.
Машину окружили девушки и дети. Они были в круглых шапках с шелковыми кистями и меховой оторочкой. У многих в зубах дымилась трубка, у каждого за поясом торчал нож.
И, словно для того, чтобы усилить невероятность всего происходящего, навстречу приезжим вышел из толпы приемный сын Артюхова, Борис.
— Получил, значит, мою «молнию»? — спросил Жуков, целуясь с ним.
Веснин впервые в жизни увидел такие могучие, такие большие кедры. Эти деревья-богатыри были здесь, рядом, а горы виднелись у самого горизонта. Поэтому кедры казались Веснину выше гор. Шелковистая длинная и мягкая хвоя деревьев-великанов отливала сизо-голубыми и черно-синими тонами. Позади кедров, на холмах, стояли лиственницы, которые выглядели совсем плоскими, будто вырезанными из тонкой жести с позолотой. Кое-где, подобно седым старухам, мелькали белые кривые березы с уже лишенными листвы вершинами. Воздух был прозрачен, прозрачным казалось и золотистое в этот час небо. Веснин не мог понять, почему у него создалось впечатление, будто и вершины гор прозрачны и будто они просвечивают одна сквозь другую.
Но самым поразительным из всего, что пришлось пережить за последнюю неделю, была для Веснина встреча с девочкой в вязаных башмаках — дочкой Бориса и Дуни. В представлении Веснина она все еще оставалась такой, какой он ее видел, когда был в гостях у Артюхова год назад. И вот это существо уже самостоятельно шлепает по полу на собственных ногах и даже произносит нечто вроде «здравствуйте» или «дядя», а может быть, и то и другое вместе.
Веснин глядел, как на величайшее чудо, на эту маленькую девочку, которой совсем недавно еще вовсе не было на свете и которая теперь так независимо болтала о чем-то своем и жила своей, неведомой другим жизнью.
Девочка нисколько не была похожа ни на Дуню, ни на Бориса. Возможно, в ней были отдельные черты, напоминавшие родителей, — например, цвет глаз и волос, но улыбалась она по-своему, выражение ее лица было иным.
Дуня перехватила взгляд Веснина.
— Вот растет, — сказала она, обняв дочку. — Мне и самой удивительно, откуда у нее что берется… Каждый день что-нибудь свое, новенькое.
— Я всю жизнь, с тех пор как научился читать, — говорил Борис, когда все сели за стол ужинать, — мечтал стать сельским врачом. Я родился в деревне и еще помню то старое время, когда родители болячки у детей лечили теплым коровьим навозом. И вот не успел я здесь и трех лет поработать, как уже намечается грандиозное строительство. Несомненно, вырастет вскоре и рабочий городок, и я буду работать уже не в сельской, а в городской поликлинике.
В дверь постучали, и в комнату вошел высокий человек средних лет с очень загорелым, обветренным лицом. На ногах у него были меховые сапоги, на голове — круглая шапка с меховой оторочкой и шелковой кистью.
— Секретарь нашей партийной организации, Павел Васильевич Улагашев! — представил его Борис.
Улагашев улыбнулся и сел к столу:
— Собственно говоря, мое настоящее имя Ит-Кулак, Собачье Ухо. Так меня назвали сорок лет назад родители, чтобы обмануть злого духа, который уносил всех их детей. Очевидно, злой дух действительно принял меня за щенка, потому-то я и остался жив. До девятнадцати лет я не стриг волос, коса у меня была красивая! Потом поступил я к попу Василию в работники, он меня обрил и окрестил Павлом. Так я стал Павлом Васильевичем.
Улагашев высказал несколько весьма основательных соображений относительно местности, которую следовало бы избрать для строительства нового завода. Его мнение несколько расходилось с мнением проектировщиков наркомата.
— Для того мы здесь, чтобы все это выяснить на месте, — сказал Жуков.
Утром, едва лишь солнечные лучи позолотили вершины кедров, к дому Бориса привели верховых лошадей. Веснину особенно понравилась невысокая буланая лошадка с очень светлой гривой и широкой мордой. У остальных лошадей были обыкновенные кавалерийские стремена, а у этой — круглые, литые бронзовые, с очень широким, отогнутым книзу бортом.
— В старину, — объяснил Веснину Улагашев, — местные люди шили сапоги с мягкой подметкой — узкое стремя врезалось бы в ногу.
— Если это стремя опрокинуть, из него пить можно, — сказал Веснин. — Оно вроде чаши.
— Да, — улыбнулся Улагашев, — есть у нас такая песня: Если стременем воду черпну, глотнешь ли?.
До этой минуты Веснин никогда даже рядом не стоял с верховой лошадью; все же ему удалось, держась за гриву полюбившейся ему буланой лошадки, взгромоздиться на седло.
— Ничего, ничего! — ободрил Веснина Улагашев. — Этот конь смирный. На нем мои детишки катаются.
Волков, с удивившей Веснина легкостью, вскочил в седло, но для его длинных ног стремена оказались пристегнутыми слишком коротко. Он спрыгнул с коня и сам все наладил. Жуков сел на лошадь спокойно и сидел мешок мешком, по-крестьянски, но, по-видимому, чувствовал себя в седле привычнее, чем Волков, который немножко рисовался своей кавалерийской выправкой.
Борису очень хотелось посоветовать Веснину не стоять в стременах, а покрепче держать коня в шенкелях, но он боялся обидеть молодого инженера. Жуков улыбался одними глазами. Сам он ездил верхом, еще будучи босоногим мальчишкой, и, вероятно, не совсем представлял себе те мучения, какие испытывал Веснин, когда, миновав каменистую тропу, они пустили лошадей рысью.
— Ваша лошадь, Владимир Сергеевич, — не выдержал Волков, — идет таким аллюром, словно она задалась целью вытрясти из вас все внутренности.
— Это бывает, — совершенно серьезно, даже строго сказал Улагашев.
— Боюсь, Владимир Сергеевич, — продолжал Волков, — что этот конек получил свое первоначальное образование в цирке, у дрессировщика, который нарочно совал. ему колючки под седло. Мне кажется, будет лучше, если вы спешитесь. О результатах поездки мы постараемся вам доложить наиподробнейшим образом. И вы сможете, конечно, при обсуждении дать нам очень ценные советы.
Веснин и сам понимал, что лучшее из всего, что он мог бы предпринять, — это, конечно, спешиться и вернуться в поселок. Но вместо этого он жалко улыбнулся и сказал, что лошадка бежит прекрасно и что он чувствует себя в седле превосходно.
В поселок вернулись, когда было уже совершенно темно. Перед домом Бориса, под открытым небом, горел небольшой костер, над костром, на треножнике, висел котел, над котлом клубился пар, и запах вареного мяса показался Веснину самым восхитительным из всех ароматов этих лесистых гор.
Но, спешившись, он понял, что не сможет принять участие в пиршестве, потому что не в состоянии и шага ступить. Ноги нестерпимо болели. Ныл каждый мускул, каждая жилка. Веснин чувствовал себя так, словно на нем снопы молотили. Ни сидеть, ни стоять он не мог.
— Вы немного походите, разомнитесь, — советовал Борис. — Непременно надо пошагать, а то завтра не встанете.
Веснин последовал этому совету.
— У нас в деревне, — говорил Борис, — не в этом поселке, а там, где я родился, «корякой» называли человека упрямого, несговорчивого, а «раскорякой» того, кто стоит, растопырив ноги, подбоченясь, ломается.
— Но в данном случае это не я ломаюсь, а меня всего ломает, — отшучивался Веснин.
После ужина Борис долго расспрашивал Веснина о своем приемном отце, о Пете Мухартове, о Косте.
Академик Волков беседовал с Улагашевым об особенностях местного горлового пения. По просьбе Волкова Улагашев исполнил охотничью горловую песнь.
Беснину казалось, что он слышит полет шмеля, серебристые переливы ручейка и легкий посвист иволги. Пел один Улагашев, но мелодия была двухголосная… Веснин уставился на Улагашева, стараясь понять секрет этого, как ему казалось, фокуса.
Волков, верный своей страсти к поучениям, принялся объяснять Веснину:
— При горловом пении полость рта служит резонатором для мелодии, ведущейся голосом на басовых нотах; вместе с тем полость рта является резервуаром или, если хотите точнее, фильтром низких частот для пульсирующего воздушного потока, который затем проходит через губы. В данном случае губы являются второй автоколебательной системой, при помощи которой певец берет высокие ноты, вторя горловой мелодии.
— В принципе ясно, — сказал Веснин, — но как это все-таки получается, я не понимаю.
— И я тоже, — подхватил Улагашев.
— Теперь мало кто так поет, — сказала Дуня. — Это шаманское пение.
— Песня — действительно настоящая колдовская. Вы и шаманить умеете? — снова обратился к Улагашеву неугомонный Волков.
— А как же, конечно умею, — совершенно серьезно ответил тот.
— Видите у него на щеке шрам? — объяснил Борис. — Это за борьбу с шаманством, получен еще в 1922 году. Шаман здесь один тогда был, поклялся убить Павла Васильевича за то, что тот его перешаманил…