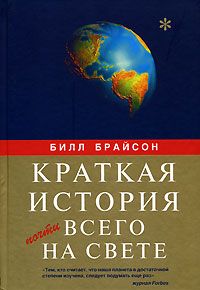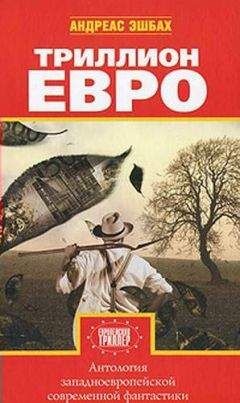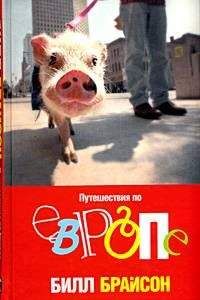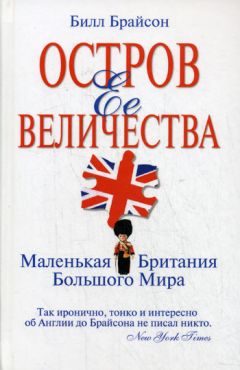Ознакомительная версия.
Мы также поразительно похожи. Сравните свои гены с генами любого другого человека, и в среднем они будут примерно на 99,9 % одинаковыми. Это то, что делает нас видом. Незначительные отличия в остающейся 0,1 % — «приблизительно одно нуклеотидное основание на тысячу», по оценке недавно удостоенного Нобелевской премии британского генетика Джона Салстона, — это то, что наделяет нас индивидуальностью. За последние годы много сделано для сбора по кусочкам полного генома человека. На самом деле такой вещи, как четко определенный геном человека, не существует. У всех людей геномы разные. Иначе все мы ничем не отличались бы друг от друга[334]. Именно бесчисленные рекомбинации наших геномов — каждый почти идентичен всем остальным, но не совсем — делают нас такими, какие мы есть, и как личности, и как вид.
Но что это за штука, которую мы называем геномом? И что, собственно говоря, такое гены? Хорошо, начнем снова с клетки. Внутри каждой клетки находится ядро, а внутри каждого ядра имеются хромосомы — 46 спутанных пучков, из которых 23 достались вам от матери и 23 от отца. За очень редкими исключениями каждая клетка вашего организма — скажем, 99,999 % — содержит один и тот же набор хромосом. (Исключением являются красные кровяные тельца, некоторые клетки иммунной системы, а также яйцеклетки и мужские половые клетки, которые по различным причинам строения несут неполный генетический набор.) Хромосомы содержат полный набор инструкций, необходимых для создания вас и поддержания вашего существования. Они сделаны из длинных нитей крошечного чуда химии, называемого дезоксирибонуклеиновой кислотой, или ДНК, — как говорят, «самой удивительной молекулы на Земле».
ДНК существует только ради одного — создавать еще больше ДНК, — и внутри вас их великое множество: почти во все клетки их втиснуто почти по 2 метра[335]. Каждая нить ДНК содержит 3,2 млрд знаков кодирования, достаточно, чтобы обеспечить 101900000000 возможных комбинаций, что, по словам Кристиана де Дюва, «гарантирует уникальность во всех мыслимых ситуациях». Это огромное количество возможностей — их число выражается единицей с 2 млрд нулей. «Чтобы напечатать это число, потребуется более 5 тысяч томов среднего формата», — замечает де Дюв. Поглядите на себя в зеркало, поразмыслите над тем, что перед вами 10 тысяч трлн клеток[336], почти каждая из которых содержит 2 метра плотно упакованной ДНК, и тогда до вас начнет доходить, сколько этого добра вы носите с собой. Если все ваши ДНК спрясть в одну тонкую нить, ее будет достаточно, чтобы протянуть от Земли до Луны и обратно, причем не раз и не два, а множество раз. Всего же, согласно подсчетам, внутри вас уложено ни много ни мало как 20 трлн км ДНК[337].
Короче говоря, ваш организм очень любит вырабатывать ДНК, без нее вы не смогли бы жить. Но сама ДНК не живая. Все молекулы неживые, но у ДНК это особенно выражено. По словам генетика Ричарда Левонтина[338], она «относится к числу самых химически инертных молекул живого мира». Потому-то при расследовании убийств ее можно извлечь из давно высохшей крови или спермы или же при определенном терпении добыть из костей древнего неандертальца. Этим также объясняется, почему ученым потребовалось так много времени, чтобы разгадать, каким образом столь интригующе пассивное — другими словами, безжизненное — вещество может находиться в самой сердцевине жизни.
О существовании ДНК известно дольше, чем вы могли бы подумать. Ее открыл еще в 1869 году швейцарский ученый, работавший в Тюбингенском университете в Германии, Иоганн Фридрих Мишер. Разглядывая под микроскопом гной на перевязочном материале, Мишер обнаружил неизвестное ему вещество, назвав его нуклеином (потому что оно находилось в ядрах клеток). В то время Мишер всего лишь отметил его существование, но нуклеин явно оставался в его памяти, потому что двадцать три года спустя в письме своему дяде он поднял вопрос о возможности того, что такие молекулы могли бы стоять за механизмом наследственности. Это было поразительное озарение, но настолько обогнавшее научные потребности времени, что предположение не привлекло ни малейшего внимания.
Большую часть первой половины следующего столетия предположение сводилось к тому, что это вещество — теперь называвшееся дезоксирибонуклеиновой кислотой, или ДНК, — играло в вопросах наследственности самую второстепенную роль. Она была слишком простой, имела всего четыре основных ингредиента, названных нуклеотидами, все равно что алфавит из четырех букв. Как можно было изложить историю жизни посредством такого зачаточного алфавита? (Ответ состоит в том, что это во многом напоминает составление сложных сообщений в виде точек и тире азбуки Морзе — путем их комбинирования.) Можно сказать, ДНК была не у дел. Просто торчала в ядре, возможно, каким-нибудь образом связывала хромосому, или немного увеличивала по сигналу кислотность среды, или выполняла какую-то другую пустячную задачу, о которой пока никто не думал. Считалось, что необходимой сложностью обладают только находящиеся в ядре белки.
Но списывание со счетов ДНК порождало пару проблем. Во-первых, ее было так много — почти по 2 метра в каждом ядре, — что клетки явно придавали ей большое значение. Ко всему прочему, она, словно подозреваемый в неразгаданном убийстве, неизменно обнаруживалась в экспериментах, особенно в двух исследованиях: одном, связанном с пневмонококковой бактерией, и другом, где изучались бактериофаги (вирусы, заражающие бактерии). Тем самым ДНК невольно обнаруживала свое значение, которое можно было объяснить только тем, что она играет более существенную роль, чем позволяло считать господствовавшее мнение. Факты подсказывали, что ДНК каким-то образом вовлечена в создание белков — важнейший для жизни процесс, но было также ясно, что белки создаются вне ядра, на порядочном расстоянии от ДНК, которая предположительно управляет их сборкой.
Никто был не в состоянии понять, каким образом ДНК вообще могла передавать сообщения белкам. Ответом, как теперь мы знаем, является РНК, или рибонуклеиновая кислота, служащая между ними переводчиком. Это удивительная странность биологии: ДНК и белки не говорят на одном языке. Почти четыре миллиарда лет они служат выдающимся примером двустороннего взаимодействия в живом мире, и тем не менее они отзываются на несовместимые коды, как если бы одна сторона говорила на испанском, а другая на хинди. Для общения они нуждаются в медиаторе в виде РНК. Работая совместно с химическим секретарем, называемым рибосомой, РНК переводит информацию клеточной ДНК на язык белков[339].
Однако к началу 1900-х годов, откуда возобновляется наш рассказ, мы были очень далеки от понимания этого и, в сущности, почти от всего остального, связанного с запутанным вопросом наследственности.
Ясно, что возникла необходимость во вдохновенном и умном экспериментировании, и, к счастью, время выдвинуло молодого ученого, обладавшего необходимыми качествами. Его звали Томас Хант Морган. В 1904 году, через четыре года после своевременного переоткрытия результатов экспериментов Менделя с горохом и почти за 10 лет до появления слова «ген», он целиком отдался исследованию хромосом.
Хромосомы были случайно открыты в 1888 году[340] и получили такое название потому, что легко впитывали красители и тем самым были хорошо видны под микроскопом. К концу столетия появились обоснованные предположения, что они принимают участие в передаче наследуемых свойств, однако никто не знал, каким образом, да и действительно ли это так.
Объектом изучения Морган избрал дрозофилу, маленькую нежную плодовую мушку, официально называемую Drosophila melanogaster. Дрозофила известна большинству из нас как хрупкое бесцветное насекомое, которое, кажется, так и тянет утонуть в нашей выпивке. Как лабораторный материал они обладали определенными, довольно важными преимуществами: их почти ничего не стоило содержать и кормить, можно было размножать миллионами в молочных бутылках, от зарождения до половой зрелости им требовалось десять дней или меньше, и у них было всего четыре хромосомы, что заметно упрощало дело.
Работая в маленькой лаборатории (получившей известность как Fly Room — «мушиная комната») в корпусе им. Шермерхорна Колумбийского университета в Нью-Йорке, Морган со своей группой принялся за программу методичного разведения и скрещивания миллионов мушек (один биограф называет миллиарды, хотя это, вероятно, преувеличение), каждую из которых нужно было брать пинцетом и через ювелирную лупу изучать малейшие изменения в наследственности. Шесть лет они пытались вызывать мутации всеми способами, какие только приходили в голову — подвергали мушек радиоактивному и рентгеновскому облучению[341], выращивали на ярком свету и в темноте, слегка поджаривали в термостатах, бешено крутили в центрифугах, — но ничто не действовало. Морган уже готовился было бросить это занятие, когда вдруг неожиданно появилась воспроизводимая мутация — мушка с белыми, а не красными, как обычно, глазами. После этого успеха Морган со своими ассистентами получили возможность вызывать полезные уродства, позволяющие проследить новое свойство в последующих поколениях[342]. Таким путем они смогли определить взаимосвязь между конкретными признаками мушек и отдельными хромосомами и в конечном счете более или менее убедительно доказать, что в основе наследственности лежат хромосомы.
Ознакомительная версия.