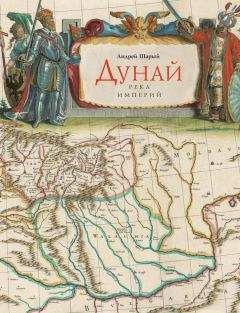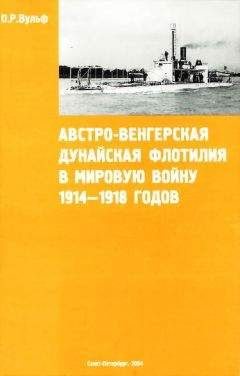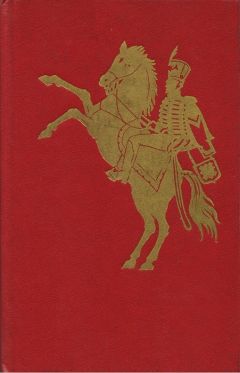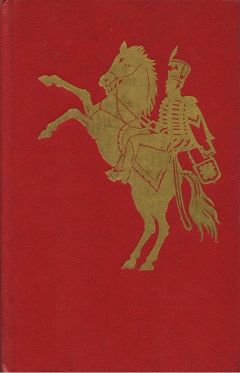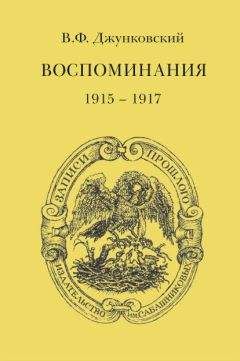Теперь немецкий Дунай заканчивается, как ему и велено картами, строго в местечке Обернцелль (а австрийский – строго в местечке Хайнбург), потому что политкорректность начала XXI века не позволяет реке и каплей переливаться за границы. Германский водный слалом по “потоку будущего” обернулся катастрофой. Идеологический и военный порывы национал-социализма перечеркнули усилия многих поколений немцев, которые своим трудом, упорством, талантом столетиями покоряли и осваивали некогда девственный дунайский край. Теперь в этом краю память о Гёльдерлине живет рядом с памятью об Адольфе Гитлере, которая куда более материальна, зрима, осязаема, чем все античные и средневековые руины.
Кастрюля Зала освобождения и храмина Зала славы, монументальные песнопения эпоса о германском походе по Дунаю, вызывают (по крайней мере, у человека русского культурного круга и советского образования) довольно сложносочиненные эмоции. Я пытался перевести эти ощущения в словесные образы, обгоняя пыхтящих по ступеням “Вальхаллы” пенсионеров и глядя с верхотуры Befreiungshalle, как яркой золотой звездой падает за Дунай немецкое солнце. Скажу вот так, не без некоторого пафоса: это памятники победам, начисто отрицающим возможность поражения; это возвеличение подвига, не ведающего о страдании; это гимн доблести, не знающей позора. Снова листаю Гёльдерлина и Хайдеггера: если у немецких славы и гордости есть истоки, то их следует искать и у истоков Дуная.
Кельхайм и Зал освобождения. Открытка 1900 года.
Впрочем, у такой победительности, вообще характерной для имперского типа общественного сознания, должен быть противовес: если где-то хором воспевают, значит где-то кто-то должен, пусть соло, проклинать. Отборные дунайские проклятия слышались в двухстах километрах выше Кельхайма по течению, в городке Зигмаринген. Это бывшая столица небольшого княжества Вюртемберг, которым столетиями, под покровительством мученика монашеского ордена капуцинов святого Фиделия Сигмарингенского, управляли представители младшей ветви семейства Гогенцоллернов – до той поры, пока в середине XIX века Пруссия не прирезала эти земли себе. В милейшем Зигмарингене Жюль Верн открыл действие своего романа о дунайском лоцмане. К той поре город уже успел погрузиться в провинциальное забытье, от которого ему, боюсь, уже не опомниться никогда. Часовыми былой гордости здесь высятся памятники разным Гогенцоллернам, я насчитал их не меньше полудюжины. И вот в конце Второй мировой войны этот княжеский двор вдруг стал столицей фактически несуществовавшей державы.
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК НЕВЕСТЫ ПЛЫЛИ НА “ДЕВИЧЬЕМ КОРАБЛЕ”
“Ульмская коробка”. Рисунок. Середина XVIII века.
В 1719 году будущий герцог Вюртемберга Карл Александр снарядил для расквартированных в гарнизонах Баната немецких офицеров судно, на борту которого вниз по Дунаю направились 150 непорочных невест из Баварии и Швабии. Процесс переселения немцев на восток начался еще в XII веке: бауэры и бюргеры прибывали на малоосвоенные пограничные территории по приглашению королей Чехии, Венгрии, Польши, получая права на самоуправление, налоговые привилегии и земли в собственность. Крупная переселенческая община в Средневековье сформировалась в Трансильвании[11]; за немцами, принесшими в эти края развитую городскую культуру и передовые методы хозяйствования, закрепилось общее наименование “саксы”. После побед в войнах с Османской империей на рубеже ХVII–XVIII столетий правительство Австрии провело несколько кампаний по заселению безлюдных придунайских венгерских земель. Разрешение на миграцию обычно получали только женатые мужчины; многие вступали в брак непосредственно перед тем, как отправиться в речной путь, как правило, на специальных баржах из Ульма или Гюнцбурга – “Ульмских коробках”. Всего на новые земли в XVIII веке перебрались около 150 (по другим данным – до четырехсот) тысяч человек. Освоенная немцами территория в междуречье Дравы и Дуная (нынешние венгерские районы Тольна и Баранья) получила название “Швабская Турция”, а сеть немецких поселений в среднем течении реки – “Дунайская Швабия”. Переселенцы сохраняли архаичный немецкий язык, их обычаи сочетались, но не сливались с местными. Национальная община не была однородной: различались “венгерские немцы”, “немцы Воеводины”, “банатские швабы”, “швабы Сату-Маре”. Потомки переселенцев тем не менее предпринимали попытки политического объединения, после Первой мировой войны обсуждался проект образования на придунайских территориях независимой Банатской республики. Тогда же было кодифицировано самоназвание “дунайские швабы”; еще через десять лет МИД Германии признал эту общину самой молодой немецкой этнической группой. Численность дунайских швабов накануне Второй мировой войны составляла, по-видимому, не менее миллиона человек; многие из них приветствовали приход к власти в Берлине Национал-социалистической партии. После войны дунайские швабы подверглись репрессиям: погибло не менее 250 тысяч человек, почти всех выживших депортировали в Германию или отправили в сталинские лагеря. Сейчас в Венгрии и Румынии проживают примерно по 60 тысяч немцев, в бывшей Югославии – около 15 тысяч. Германское присутствие в “немецких” районах Венгрии, Хорватии, Сербии, Трансильвании теперь почти не ощущается. Интерес к прошлому стал диковинкой: хозяин букинистического магазина в румынском городе Брашов (нем. Kronstadt) был так растроган моими вопросами, что на прощание подарил сборник “Английская романтическая повесть” на языке оригинала, изданный в 1980 году московским издательством “Прогресс”. В Германии и Австрии изучением истории и культуры трансильванских саксов и дунайских швабов занимаются несколько научных обществ и институтов. В старой крепости Ульма открыт Музей дунайских швабов.
Осенью 1944 года отступавшие и на Западе нацисты превратили живописный замок Гогенцоллернов на дунайской круче в резиденцию правительства марионеточного Французского государства [12]. Княжескую семью выселили. Зигмаринген получил формальный статус города-государства, при котором были аккредитованы посольства Германии, Италии и Японии, где работала франкоязычная радиостанция и выходили франкоязычные газеты. Вместе с министрами и чиновниками в Зигмарингене нашли убежище сотрудничавшие с гитлеровцами новые изгнанники, полторы или две тысячи человек. После войны этих les collabos перестреляли, повесили, посадили, во всяком случае, приговорили к “общественному бесчестию”.
Замок в Зигмарингене. Открытка 1905 года.
Среди такой вот неуместной публики оказался и Луи-Фердинанд Селин, “безмерно талантливый писатель и невероятно несчастный, не нашедший места в собственной жизни человек, из личного несчастья которого произросла утонченная, странная, нелинейная, аморфная проза”. Селин, не скрывавший своих антисемитских взглядов, еще в 1930-е годы получил в либеральных кругах репутацию человеконенавистника и “злобного сумасшедшего”. Один исследователь его творчества сравнил прозу Селина с “тяжелой черной рекой, заполненной трупами иллюзий и мертвыми надеждами”. И это тоже правда: в вышедшем в 1957 году романе “Из замка в замок”, первой части автобиографической трилогии, именно в таком образе предстает Дунай. Посвященная войне, Зигмарингену и жизненной бессмыслице книга Селина по части гибкости стиля и силы метафоры – пожалуй, лучшее из того, что мне довелось читать об этой реке.
В Германии Селин занимался врачебной практикой, ожидая и даже приветствуя в силу цинизма своей противоречивой натуры крушение рейха. Замок Гогенцоллернов представлялся ему логовом “едва ли не самых хищных волков Европы”. Писатель так презирал Зигмаринген, что исковеркал название города идеологией: в немецком Sigmaringen Селин услышал сходство с нацистским Sieg (нем. победа). Но никакой победы в окружающем его мире писатель не обнаружил: это всего лишь фрагмент картины тотального разочарования в человечестве. Дунай, по Селину, – загнивающая река истории, поток грязи и насилия, который в конце концов принесет цивилизации долгожданную смерть: “Буль-буль!.. бурливый и своенравный Дунай! он поглотит всех!.. вот вам и Donau blau… бляха муха!.. эта безумная неукротимая река способна унести Замок вместе со всеми его колоколами… и демоническими личностями!.. да что там! черт побери! все трофеи, латы, знамена и горны, от которых в свое время сотрясался весь Черный лес и огромные вековые сосны!.. они тоже не выдержат и рухнут!.. смешаются с лавиной обломков!..” Великие исторические персонажи, сменявшиеся на берегах реки, казались Селину “дунайскими гангстерами”. “Вальхаллой”, конечно, он не восхищался.