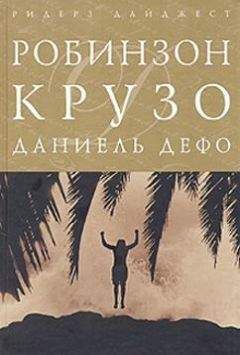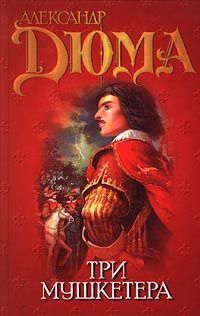— Прошу вас, расскажите подробно обо всем, что с вами случилось в тот день, — сказал Холмс.
— Церковь была полна, — начал Германн. — Я насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и белом атласном платье. Кругом в глубоком трауре стояли родственники: дети, внуки, правнуки.
— Тяжкое зрелище! — вздохнул Уотсон. — Не знаю, как вы, а я так совершенно не выношу слез, в особенности женских.
— Нет, — возразил Германн. — Слез не было. Графиня была так стара, что смерть ее никого не могла поразить. Тем неожиданнее для всех явилось то, что случилось со мною.
— А что с вами случилось? — быстро спросил Холмс.
— После свершения службы пошли прощаться с телом. Сперва родственники, потом многочисленные гости. Решился подойти к гробу и я…
— Ну?.. Что же вы замолчали?
С видимым усилием Германн продолжал свой рассказ:
— Я поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, взошел на ступени катафалка и поклонился… Мне говорили потом, что в сей миг я был бледен, как сама покойница…
— Кто бы мог подумать, что вы так впечатлительны, — удивился Уотсон.
— Признаться, я и сам этого не думал. По натуре я холоден и крайне сдержан в проявлении чувств. Но тут… Тут случилось нечто, поразившее меня в самое сердце.
— Что же? — снова подстегнул его Холмс.
— В тот миг, как я склонился над гробом, мне показалось, что мертвая графиня насмешливо взглянула на меня, прищурившись одним глазом. В ужасе подавшись назад, я оступился и навзничь грянулся об земь.
— Какой ужас! — воскликнул Уотсон.
— То-то, я думаю, был переполох, — невозмутимо отозвался Холмс.
— Да, — кивнул Германн. — Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Немедля нашлось объяснение моего странного поведения. Кто-то пустил слух, что я якобы побочный сын покойной графини. Один англичанин…
— Бог с ним, с англичанином, — прервал его Холмс. — Расскажите лучше, что было потом.
— Извольте, — пожал плечами Германн. — Весь день я пребывал в чрезвычайном расстройстве. Обедая в уединенном трактире, я, против своего обыкновения, очень много пил…
— Ах, вот оно что, — словно бы про себя пробормотал Уотсон.
— Да… Обычно я не пью вовсе. Но тут… Вы понимаете, я хотел заглушить внутреннее волнение. Однако вино не помогло мне, оно лишь еще более горячило мое воображение…
— Понимаю. Очень даже понимаю, — сказал Уотсон.
— Ну, вот, пожалуй, и все. Воротившись из трактира домой, я бросился, не раздеваясь, в кровать и крепко заснул.
— Ну а о том, что произошло, когда вы проснулись, — сказал Холмс, — мы уже знаем. Благодарю вас, господин Германн! Вы очень помогли нам.
Холмс, как видно, был доволен результатом беседы с Германном. Уотсон, напротив, выглядел слегка сконфуженным.
— Итак, мы установили, — начал Холмс, — что вопреки суждению Лизаветы Ивановны, Германна все-таки мучила совесть. Следовательно, тот факт, что ему вдруг привиделась мертвая графиня, мог быть не чем иным, как прямым результатом терзаний его воспаленной совести.
— Да, — вынужден был согласиться Уотсон, — этот его рассказ о том, как ему почудилось, будто мертвая графиня взглянула на него с насмешкой…
— Согласитесь, это сильно смахивает на галлюцинацию. Не правда ли?
— Безусловно, — подтвердил Уотсон. — И это вполне согласуется с моим предположением, что Германн сошел с ума не в самом конце повести, а гораздо раньше.
— Ну, это, быть может, сказано слишком сильно, — ответил Холмс, — но одно несомненно: Германн был в тот день в крайне возбужденном состоянии. А если к этому добавить его суеверие, да еще тот факт, что перед тем, как свалиться в постель не раздеваясь и заснуть мертвым сном, он довольно много пил…
— Да, алкоголь весьма способствует возникновению всякого рода галлюцинаций, — сказал Уотсон. — Это я могу подтвердить как врач.
— Как видите, Уотсон, — усмехнулся Холмс, — у нас с вами есть все основания заключить, что в «Пиковой даме» нет ничего загадочного, таинственного. Все загадки этой повести объясняются причинами сугубо реальными. Не так ли?
Уотсон уже был готов согласиться с этим утверждением, но насмешливый тон Холмса заставил его еще раз взвесить все «за» и «против».
— Все загадки? — задумчиво переспросил он. — Нет, Холмс, не все. Главную загадку этой повести вам не удастся объяснить так просто.
— Что вы имеете в виду?
— Три карты. Тройка, семерка, туз. Этого никакими реальными причинами не объяснишь. Ведь графиня не обманула Германна. И тройка выиграла, и семерка…
— А туз?
— И туз наверняка выиграл бы, если бы Германн не «обдернулся», как выразился Пушкин. Иными словами, если бы он не вынул по ошибке из колоды не ту карту: даму вместо туза.
Холмс удовлетворенно кивнул:
— Вы правы. В «Пиковой даме» действительно имеется три фантастических момента. Рассказ Томского, затем видение Германна и, наконец, последний, решающий момент: чудесный выигрыш Германна.
— Вот именно! — оживился Уотсон. — Первые два вы объяснили довольно ловко. Но этот последний, главный фантастический момент вы уж никак не сможете объяснить, оставаясь в пределах реальности.
— Позвольте, — сказал Холмс. — Но ведь вы сами только что выдвинули предположение, что Германн уже давно сошел с ума. И разве его рассказ о том, как овладела им эта маниакальная идея, как всюду, во сне и наяву, ему стали мерещиться тройка, семерка и туз, — разве это не подтверждает справедливость вашего предположения?
— Да, но почему ему стали мерещиться именно эти карты? — живо откликнулся Уотсон. — Если считать, что графиня вовсе не являлась ему с того света и не называла никаких трех карт, если видение это было самой обыкновенной галлюцинацией, откуда тогда явились в его мозгу именно эти три названия? Почему именно тройка? Именно семерка? Именно туз?
Достав с полки «Пиковую даму» Пушкина, Холмс открыл ее на заранее заложенной странице.
— Я ждал этого вопроса, — сказал он. — Послушайте внимательно, я прочту вам то место, где Пушкин описывает мучительные размышления Германна, страстно мечтающего, чтобы графиня открыла ему тайну трех карт.
— Да помню я прекрасно это место! — нетерпеливо воскликнул Уотсон.
— И тем не менее послушайте его еще раз, — сказал Холмс и прочел вслух, делая особое ударение на некоторых словах: — «Что, если старая графиня откроет мне свою тайну? Или назначит мне эти три верные карты?.. А ей восемьдесят семь лет; она может умереть через неделю… Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал…»
Пытливо глянув на Уотсона, Холмс сказал:
— Ну как, Уотсон, улавливаете?.. Надеюсь, вы заметили, что мысль Германна все время вертится вокруг трех магических цифр. Сперва преобладает идея тройки, связанная с мыслью о трех картах. Затем присоединяется семерка: восемьдесят семь, неделя (то есть семь дней). И наконец оба числа смыкаются: «утроит, усемерит…» Ну а что касается туза…
— Тут действительно нет никаких загадок, — обрадованно подхватил Уотсон. — Германн мечтает сам стать тузом, то есть богатым, влиятельным человеком.
— Вот именно! А теперь припомните-ка, что сказала графиня Германну, когда она явилась к нему якобы с того света.
— Она выполнила его просьбу: назвала ему три карты, которые должны выиграть.
— Ну да, — кивнул Холмс. — Это самое главное. То, что волновало Германна превыше всего. Но кроме этого она сказала, что прощает Германну свою смерть при условии, что он женится на Лизавете Ивановне. Таким образом, тут сплелось в единый клубок все, что мучило Германна: его вина перед покойной старухой, его вина перед Лизаветой Ивановной, которую он обманул. Ну, и наконец самое главное: его фантастическое стремление разбогатеть, сорвать крупный выигрыш.
— Я вижу, Холмс, — подвел итог Уотсон, — вы окончательно пришли к выводу, что графиня вовсе не являлась к Германну, что все это ему просто померещилось. И что в «Пиковой даме», таким образом, нет ни грана фантастики.
— Ну нет! — возразил Холмс. — В такой категорической форме я бы этого утверждать не стал. Я думаю, что истина тут где-то посередине. Мне кажется, Пушкин нарочно построил свое повествование как бы на грани фантастики и реальности, стараясь нигде не переступить эту грань. Можно сказать, что он нарочно придал вполне реальному происшествию фантастический колорит. А можно высказать и противоположную мысль: сугубо фантастическую историю Пушкин рассказал так, что все загадочное, все таинственное в ней может быть объяснено вполне реальными обстоятельствами.