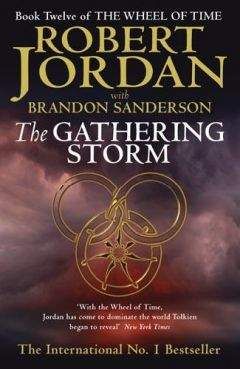Ознакомительная версия.
Российский повторный запрет 2013 года на импорт молдавских вин стал очередной попыткой через эмбарго на продукцию молдавских виноградников выкрутить руки руководству Молдовы в преддверии декларируемого подписания соглашения с ЕС[177]. В преддверии Вильнюсского саммита 2013 года Кремль также сделал ряд грозных заявлений о намерении прекратить поставки газа в Молдову и подвергнуть молдаван, работающих в России, дополнительным проверкам на право пребывания[178].
В конечном счете тактика Москвы не сработала; Республика Молдова подписала важное соглашение по укреплению связей с ЕС на саммите в Вильнюсе в 2013 году. При этом, несмотря на промежуточный успех Молдовы в Вильнюсе, кажется весьма сомнительным, что Украина, ее гигантский сосед, добьется того же самого. Без сотрудничества с Украиной молдаванам будет тяжело противостоять российскому давлению и попыткам воспрепятствовать евроинтеграции страны. Хотя прозападные политики заняли 55 из 101 места в молдавском парламенте на выборах в декабре 2014 года, они потеряли поддержку избирателей[179]. Страна по-прежнему не определилась в своем отношении к европейской интеграции, а премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ дал понять, что «мы не хотим быть заложниками Украины»[180].
Тот факт, что Россия столь дерзко и решительно использует принудительные торговые меры, причем почти сразу после собственного вступления в ВТО в 2012 году, говорит о некотором преувеличении Западом ценности и значимости своих институтов; как минимум, этот факт отражает недооценку расширяющегося применения и эффективности методов геоэкономического давления, даже на фоне западных альтернатив и институциональных ограничений. «Жесткая сила одолела мягкую на саммите в Вильнюсе», – пошутил один комментатор, имея в виду способ, каким Москва своей агрессивной тактикой обозначила пределы панъевропейского влияния ЕС[181]. Программа «Восточное партнерство» может считаться олицетворением усугубляющейся аллергии Брюсселя на традиционные методы безопасности и геополитики и знаменует движение в сторону экономической интеграции как инструмента укрепления стабильности и мира[182]. В политическом хаосе после саммита в Вильнюсе широко распространялось убеждение, что «Восточное партнерство», ключевая программа ЕС, фактически затерялась в «соперничестве геополитики и экономической модернизации»[183]. Налицо явное непонимание сути происходящего, которое представляло собой схватку двух проявлений геоэкономики – экономической притягательности ЕС и экономического диктата Москвы. При этом абсолютно унылая, если позволительно так выразиться, геоэкономика ЕС может трактоваться – и на самом деле воспринимается – как лишенная какого бы то ни было геополитического измерения; отсюда следует очевидный вывод: нынешняя геоэкономическая политика Евросоюза бессодержательна – во всяком случае, применительно к восточным соседям ЕС.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в главе 1 – как возрождение геоэкономики изменило способы, которыми государства применяют военную силу? – можно сказать, что реакция России и ЕС на «Восточное партнерство» предлагает здесь любопытный фактический материал.
Тридцать лет назад 90 % всех трансграничных потоков обеспечивала торговля; в 2014 году 90 % потоков составили финансы[184]. Причем большая часть этих финансов имеет форму инвестиций – краткосрочных, гибких «портфельных», или долгосрочных, «прямых» инвестиций. С геоэкономической точки зрения инвестиции сегодня значат куда больше, чем в предыдущие эпохи, поскольку в наше время намного больше финансов курсирует между государствами – как в относительном, так и в абсолютном выражении.
Если отвлечься от вопроса о масштабах, модели инвестирования (так сказать, образцы капитализации капитала) тоже сильно отличаются. Двадцать лет назад Соединенные Штаты пользовались своим доминирующим положением в мире (некоторые даже рассуждали об «однозначном доминировании»): отсюда капитал происходил, сюда он перетекал и тут аккумулировался[185]. Но указанное доминирование ослабло по всем трем пунктам. Согласно глобальному индексу финансовых центров, продолжается финансовое возвышение Ближнего Востока, с Катаром во главе; Токио, Сеул и Шэньчжэнь демонстрируют куда более позитивную динамику, нежели соседние азиатские финансовые хабы[186]. Валовой приток капитала на развивающиеся рынки увеличился впятеро с начала 2000-х годов, по данным МВФ, и портфельные инвестиции составляют все большую и все более важную часть этого потока[187]. Финансирование по линии «Юг – Юг» тоже стремительно растет, его объем составляет приблизительно 1,9 триллиона долларов иностранных инвестиций в странах с развивающейся экономикой[188].
Вдобавок, если сравнивать с прошлым, государства сегодня напрямую владеют или контролируют значительную долю этих трансграничных инвестиций. Очевидно, что для стран-экспортеров сырья, будь то Россия, Бразилия или многие страны Персидского залива, данные активы издавна являлись источниками доходов и власти, слишком привлекательными, чтобы передавать их в частные руки. Но лишь благодаря резкому росту цен на сырьевые товары в последние годы эти потоки ресурсов обеспечили ту маржу (и то пополнение государственной казны), которая наблюдается сегодня.
Концентрация исходящих прямых иностранных инвестиций в руках государства ныне выходит далеко за пределы энергетического сектора. Государственные компании и государственные инвестиции во всех сферах деятельности прорываются за рубеж, и в некоторых случаях такой результат обеспечивается государственным финансированием[189]. Причем государствам принадлежат не только поставщики, но и множество потребителей этих потоков. Ярким примером может служить нарастающая потребность Китая в поставках энергоносителей. Подавляющее большинство сделок в области энергетики заключается Китаем с правительствами других стран. В итоге налицо увеличение числа сделок, которые подразумевают участие государственных контрагентов с обеих сторон, будь то соглашение между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией на 400 миллиардов долларов или контракт между «Бритиш петролеум» и Китайской национальной корпорацией морской нефтедобычи на поставки сжиженного природного газа[190]. Сложно допустить, что геополитика никак не фигурирует в данных соглашениях.
Наконец, помимо новых объемов, новых игроков и новых моделей инвестирования, сегодня используются сравнительно новые инвестиционные инструменты – новые по сути, по способу применения или по обоим параметрам. По состоянию на середину 2015 года объемы мировых финансовых резервов превысили 11 триллионов долларов, тогда как в предыдущем десятилетии они составляли всего 2 триллиона[191]. Только развивающиеся страны увеличили свои резервы с показателя чуть более 700 миллиардов долларов в 2000 году до 7,5 триллиона долларов в 2015 году. Подобные показатели (многократно превосходящие потребности в покрытии импорта) означают, что государства, располагающие такими резервами, имеют широкие возможности по вложению средств в разнообразные активы[192]. Если Китай имеет 4 триллиона долларов в резерве и нуждается примерно в 125 миллиардах долларов ежемесячно на покрытие импорта, например, отсюда вытекает, что эти запасы дают Пекину «подушку безопасности» минимум на два года. (Тем, кто полагает, что эти резервы не столько покрывают импорт, сколько служат страховкой на случай кризиса на рынке капитала – вроде памятного азиатского финансового кризиса 1997 года, – напомним, что в ходе того кризиса объем китайских валютных свопов достиг 30 миллиардов долларов, а эта цифра намного меньше нынешних запасов Китая[193].) Подобная широта инвестиционных возможностей обеспечивает простор для дипломатии и позволяет, применительно хотя бы к некоторым типам активов, предъявлять соперникам геополитические козыри.
Двадцать лет назад государственные предприятия (ГП) были фактически этакими «отстойниками» для трудоустройства работников внутреннего рынка. Десять лет назад многие открыто выражали сомнение в том, что эти компании, обремененные плохими долгами и неопытным руководством, смогут преуспеть за пределами внутренних рынков. Сегодня к числу ГП принадлежат некоторые из крупнейших мировых компаний, их деятельность обеспечена рядом крупнейших резервов капитала, и они причастны к половине из десяти крупнейших мировых сделок по IPO за последние шесть лет. Мало напоминая госпредприятия вчерашнего дня, сегодня компании с поддержкой государства все чаще осуществляют прямые иностранные инвестиции в мировом масштабе (на их долю приходится свыше трети всех подобных инвестиций на развивающихся рынках), а также занимают лидирующие позиции в большинстве листингов на ведущих фондовых рынках[194]. Это не означает, разумеется, что сегодняшние ГП лишены недостатков – в массе своей они значительно уступают в эффективности своим частным аналогам[195]. Но экономическая эффективность в данном случае не важна. Куда важнее то, что ГП гораздо гибче политически в сравнении с большинством частных фирм[196].
Ознакомительная версия.