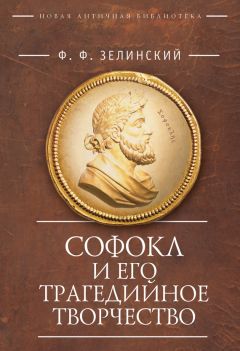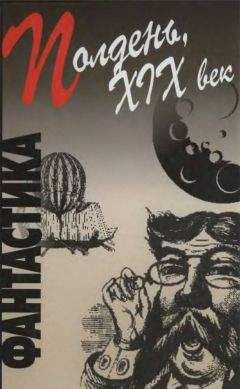И наши дети – уже не припомним с каких времен – прекрасно поняли нас, этих относительных «нас» каждого данного поколения. Сами не отдавая себе отчета в том, что они «нас» пародируют, они и со своей стороны разделили поле своей игры на участки и участочки, определяя условия пребывания в каждом из них и перехода из одного в другой. Подобно «нам», и они изгнали силу и размах и сделали ловкость одноногого прыжка первым условием успешного передвижения символического камешка из участка в участок своего символического бытового «котла», вплоть до его успешного выхода…
Куда? Об этом уже не спрашивают. Все условия, господа, исполнены: игра кончена.
* * *
Есть у нас и счастливые – более или менее, конечно. Это те, кому великая горизонталь, как удобное коромысло, пришлась по плечу. Они верят в необходимость и благотворность системы участков и системы условий. В пространство они не рвутся, благо у них имеется в виду «место», и они желали бы только, чтобы его получение было получше обставлено лично для них, оставляя им побольше «времени» для того, что они по простительной ошибке называют своей жизнью.
Есть затем и другие. Это, во-первых, те, которым коромысло пришлось не по плечу вследствие ненормального, в худом смысле, построения их тела. Немощные, худосочные, отверженные не только бытом, но и жизнью, они естественно ищут вне себя ту причину своей безрадостности, которая лежит в них самих, в самом зародыше их существования. И вот они смеются над системой участков и условий, над местами и их счастливыми обладателями, но смеются нездоровым, худосочным смехом, за которым зияет пустота. О пространстве, расстилающемся над перегородками осмеиваемых ими участков, они не имеют никакого представления; солнечный свет ничего не говорит их тусклому взору, ветер и грозы не находят отклика в их расслабленной душе: недовольные бытом, но и не веря в жизнь, они пробавляются отрицанием всего того, к чему другие относятся положительно, сами же за отсутствием жизненных сил ничего положительного не создают. Это, таким образом, нигилисты… Правда, я пока охарактеризовал только один их класс, но он – самый важный, так как представляемый им нигилизм, согласно сказанному, – нигилизм органический. О нигилизме случайном или преходящем можно не распространяться.
Эти другие – отрицатели быта во имя сознаваемой или не сознаваемой пустоты – оставили в литературе крупный след своих худосочных дум: им принадлежит обличительная бытовая драма с ее сатирическим смехом, за которым зияет пустота, с ее усталым раздумьем, из-за которого широкой, тягучей струей ползет беспросветное уныние. Действительно, те первые, довольные обладатели мест ничего замечательного в драматической литературе создать не могли; их умственный показатель – моралистическая драма, в которой добродетельные награждаются местами, а порочные лишаются таковых, причем добродетельность и порочность разумеются в смысле удовлетворения или неудовлетворения условиями пребывания в участках. А такая драма, не давая пищи таланту, не рассчитана на долговечность. Нет: бытовая драма, поскольку она удержалась или способна удержаться, имеет своими творцами не тех первых, а этих других.
Есть, однако, и третьи.
* * *
Мы не можем заглянуть в тайники природы, не можем истолковать себе сущность и действие той загадочной силы, которую мы более вследствие отсутствия точного о ней понятия, чем вследствие наличности такового, назвали «силой жизни». Все же есть основание думать, или, по крайней мере, верить, что тот неприхотливый для нашего непросвещенного взора приговор природы, в силу которого одной человеческой особи при равных прочих условиях дается сильное и здоровое телом и душою потомство, другой же – нет, выражается заранее в известном биологическом предрасположении той и другой. И есть, тем более, основание заключить далее, что это предрасположение отражается соответственным образом в их духовном естестве, вызывая у первой из указанных особей в усиленной степени ту «любовь к земле наших детей и внуков», которая является самым сильным и бодрящим призывом к жизни и деятельности, и ограничивая интересы второй возможным удобством ее личного существования.
С первой из них имеем мы дело теперь; ее я имел в виду, намечая выше тот разряд третьих, которых я противопоставлял и довольным, и нигилистам.
Эти третьи тоже недовольны бытом и его условиями, но это – недовольство силы, а не дряблости. Они возмущаются против его давящей горизонтали, но возмущаются потому, что чувствуют в себе клокочущее стремление вверх, к грозе, к ветру, к солнцу – короче говоря, чувствуют действие вертикали жизни. Их душа полна чаяния нового, лучшего времени, того, которое они сулят тем дорогим дальним, имеющим некогда принять от них светоч жизни. Это будет царство силы в добре и зле… ибо зло необходимо как противовес добру, не нужна только та дряблость, которую мы вскармливаем за счет силы в наших участках и участочках.
И вот то чаяние будущего, вызванное любовью к земле детей и внуков, ищет образов, в которых оно могло бы воплотиться. Этих образов оно в настоящем, в окружающем не находит: ведь настоящее, окружающее – это и есть тот быт, горизонталь которого желала бы прорвать стиснутая в их груди вертикаль жизни; поставленные на одну плоскость с реальными образами настоящего, идеальные образы будущего отдавали бы неестественностью и фальшью – не потому, что они были неестественными и фальшивыми (они, напротив, как воплощения будущего, обладали бы правдой в высшем, жизненном, а не в низшем, бытовом смысле), а потому, что окружающие бытовые образы или вообще окружающая бытовая обстановка создала бы совершенно неподходящий фон для их оценки. Нет, чаяния будущего, волнующие душу поэта жизни, могут воплотиться только в образах прошлого, но такого прошлого, которое могло бы с ними ужиться, не являясь их опровержением. Сейчас поясню значение этой оговорки.
* * *
Прошлое бывает двух родов.
Есть, во-первых, такое прошлое, которое когда-то было настоящим. Когда оно было настоящим – оно было, разумеется, бытом, с его участками и участочками, с его горизонталью, с его довольными и недовольными. Эти участки и все прочее были в большей или меньшей мере иные чем теперь, но ничто не заставляет нас думать, что они в целом (о частностях не говорю) были лучше теперешних; ведь, допуская это, мы отрицаем прогресс, а отрицая прогресс, мы отрицаем и наше будущее. Конечно, прогресс не представляет из себя прямой линии, поэтому некоторые эпохи прошлого могут являться для некоторых позднейших эпох идеалом. Но это исключение; вообще же прошлое, как минувший быт, не может дать поэту того материала, который ему нужен, – проекции и воплощения того будущего, зачатки коего в нем живут. И когда мы видим, как зачастую поэты пишут трагедии на темы прошлого, мы в этом еще более убеждаемся. Как люди добросовестные, они стараются прежде всего тщательно изучить быт данной эпохи; его они по мере своих сил воспроизводят; в результате выходит трагедия археологическая, а не трагедия жизни.
Есть однако и другое прошлое; это – то, которое никогда не было настоящим, а всегда лишь предполагалось как бывшее таковым. Имя этому прошлому – героический миф. Сопровождая создавший его народ на всем пути его развития, он самопроизвольно прикреплялся к той или другой эпохе его истории и из этого соприкосновения черпал те или другие черты исторической действительности – другими словами, те или иные элементы быта, достаточные для того, чтобы придать им внешнюю и внутреннюю убедительность, недостаточные для того, чтобы связывать фантазию творцов. Его своеобразное значение как прошлого, никогда не бывшего настоящим, сказывается именно в отношении к нему этих творцов, в той свободе, которую они позволяли себе, имея дело с ним. Нам говорят, что в лучшую эпоху Греции мифические герои признавались историческими персонажами; это, однако, и так, и не так. Сознательно разницы не делалось: для Геродота и даже для Фукидида Агамемнон – историческое лицо. Но бессознательно эта разница очень даже ощущалась: ни одному греческому трагику не приходило в голову сделать Солона или Писистрата героем трагедии.
Впрочем, то были греки. Не все народы имели счастье обладать такой богатой сокровищницей мифов; и вот мы видим, как у других, уже начиная с римлян, история облекается в одеяние мифа. Возникает то, что Ницше хорошо назвал монументальной историей в противоположность к критической. Белинский был глубоко прав, когда он называл Ливия римским Гомером: здесь – мифология, там – монументальная история. Конечно, она существовала в Риме и до Ливия; из нее черпали свои сюжеты римские трагики, поскольку они не ограничивались переделками греческих трагедий. Но для придачи истории монументального характера и ее приравнения к мифу требуется прежде всего одна отрицательная черта: незнание (или нежелание знать), как в действительности обстояло дело. В этом – отличие героической трагедии от археологической. Так поступил Шиллер с Орлеанской девой, с Дон-Карлосом; несмотря на историчность действующих лиц и фона, это – героические трагедии. Сомневаюсь, чтобы они были возможны в настоящее время: критическая история убивает монументальную.