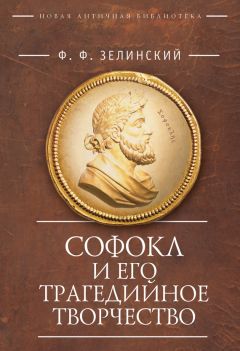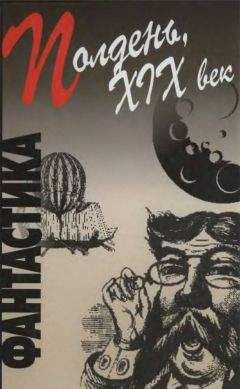В некоторых фигурах из потерянных трагедий читатель признает прежде всего двойников, известных ему уже из сохраненных драм, чему после сказанного выше удивляться нечего. Деянира, как мы видели, повторена в Алфесибее, хотя все же не совсем: эта ведь сумела отомстить за мужа, в ней Деянира сочеталась с Электрой. Но Клитемнестра из «Электры» предварена в Эрифиле из «Эпигонов» и, кажется, довольно полно; она же, по крайней мере в своем отношении к дочери, ожила в злой мачехе Сидеро́ из «Тиро́ Первой». Верную дочь Антигону из «Эдипа Колонского» подготовила Ипсипила в «Лемниянках», спасительница своего старого отца, и еще более Брисеида в «Пелее», хотя здесь мы имеем не дочь, а невестку. И старый Эдип из второй трагедии его имени встречается не раз: как скиталец, это только что названный Пелей; как разгневанный отец – Теламон из «Тевкра» и «Еврисака»; отчасти ему соответствуют и Фегей из «Алкмеона», и Эгей и Приам из трагедий тех же имен.
Но эти повторения, к тому же очень неполные, ничто в сравнении с теми новыми характерами, которым древность была обязана неистощимой палитре нашего художника. Для нас Аянт и Геракл представляют крайнюю степень в изображении суровости мужских характеров; что же сказали бы мы о тех извергах, которых Софокл создавал в своей юности, о его Атреях и Тереях из соответствующих трагедий? Или, быть может, он потому и перестал их создавать в эпоху своей художественной зрелости, что нет таких средств характеристики, которые могли бы их представить правдоподобными? Вернемся в пределы человечности. Вот чистый душою, стойкий перед женской прелестью юноша: Беллерофонт в «Иобате», Ипполит в «Федре». Вот затем его антипод: смелый, легкомысленный, неотразимый для женской души Александр-Парис из «Александра» и «Похищения Елены», Ясон из «Лемниянок» и «Колхидянок»; вероятно, и Пелоп из «Эномая». Вот верный долгу и честный витязь, страдающий и гибнущий от не оценивших его доброты людей: Паламед, Тевкр из одноименных трагедий, Диомед из «Лаконянок»; ему противопоставляем безнаказанного пока нечестивца – Аянта Локрийского, или же расчетливого и всегда победоносного стяжателя – Одиссея из названных уже трагедий. Идя дальше в мужском возрасте, встречаем доверчивых мужей с большим или меньшим оттенком благородства, падающих жертвой своего легковерия: Менелая из «Похищения Елены», Агамемнона из «Клитемнестры», Афаманта из «Афаманта Увенчанного»; встречаем короля Лира, или, пожалуй, Глостера древности, безрассудно свирепствующего против собственных детей; это – Финей из «Финея Первого», тоже, к слову сказать, ослепленный; это Аминтор из «Феникса», это Тезей из «Федры». И кого-кого мы не встречаем!
Затем – женщины. Да, наш поэт не мог бы сказать подобно Эсхилу, что он никогда не изобразил влюбленной женщины; есть у него и невинно влюбленные девушки – Медея в «Колхидянках», Ипподамия в «Эномае», есть и преступно влюбленные мужние жены, подобно Федре в трагедии того же имени. Затем – дочери; впрочем, о них уже была речь. Отметим, однако, царственную деву-пророчицу Кассандру в ряде троянских трагедий – и, в параллель к ней, царственную жрицу Феано́ в «Аянте Локрийском». Далее нескончаемая тема супруги. Тут и супруга любящая – ее мы уже знаем; и любящая, но без вины виноватая – Алкмена в «Амфитрионе»; и с виною виноватая, но кающаяся – Елена, Прокрида. И, наоборот, ревнивая и мстительная Медея в «Зельекопах», вероятно, и Клитемнестра в одноименной трагедии. Далее матери: Даная прежде всего в «Акрисии», это предварение вагнеровской Зиглинды, которой во всех ее страданиях служит утешением сознание, что она в своем лоне лелеет лучшего витязя вселенной; затем ее антипод – Алфея, убившая своего сына ради мести за братьев («Мелеагр»); пожалуй, и Тиро́ (Вторая), хотя ее положение было другое: она ведь убила детей, чтобы они не стали убийцами ее отца; и, мать из матерей, Ниобея…
Всего не перечесть. Конечно, те сухие мифографические пересказы, на основании которых мы восстановляем потерянные трагедии Софокла, сами по себе не дадут нам представления о характеристиках действовавших в них лиц. Но кто внимательно изучил искусство поэта в сохраненных драмах и затем уже обратился к потерянным, на того и с этих сухих пересказов повеет духом гения и в его фантазии оживет весь этот богатый мир утраченной поэзии.
* * *
Говорят, Эсхил был изобретателем трагической маски – того благородного подобия человеческого лица, которое представляет его застывшим в прекрасном, но недвижном выражении. И право, к его действующим лицам такая маска идет: они большею частью с начала и до конца сохраняют то же настроение. Гордый Этеокл, гордый Прометей; Клитемнестра льстит своему супругу в первой сцене, но мы и тут охотно представляем себе на ее лице то же выражение зловещего холода, с которым она позднее, после убийства, появляется к хору. То же самое и с другими.
Это не значит, чтобы у Эсхила не бывало совсем изменений в настроении; они изредка встречаются, но только в виде крутых переломов.
– Прими нас в свой город, – говорят Данаиды царю.
– Не могу: за граждан страшно.
– Тогда мы повесимся на кумирах твоих богов.
– Это было бы неизгладимой скверной; пойду совещаться с общиной.
То же самое в последней сцене «Евменид». Оскорбленный хор мечет угрозы против Афин; все ласковые речи богини-покровительницы с обещанием культа тщетны. И вдруг, неожиданно для нас, примирительный вопрос: «Владычица Афина, какую обитель обещаешь ты нам?» – и вражде конец.
В противоположность к этой строгой, архаической, хотя и внушительной в своей величавой неподвижности технике Софокл должен считаться творцом психологической постепенности в переходах, – конечно, там, где она уместна. Возьмем для пояснения из самой ранней для нас трагедии, из «Антигоны», сцену Креонта с Гемоном. Последний приходит почтительным сыном, уходит мятежным и отчаявшимся; стоит обратить внимание на постепенность, с которой совершается этот переворот. Он начинается уже во время его агонистической речи, будучи вызван, очевидно, выражением несговорчивости и негодования в игре сурового отца: вначале трогательное выражение преданности, но во второй половине уже слышатся нотки ласкового предостережения; затем, ввиду упорства отца, более настойчивые убеждения; затем, когда спор переходит на политическую почву, не лишенные резкости возражения; затем, при троекратном повторении укоризны в «угождении женщине», – всё более и более горячие ответы и, наконец, после решительной угрозы, – взрыв отчаяния. То же можно проследить в сцене Креонта с Тиресием: старый пророк настроен добродушно, лишь мало-помалу царь повторением своего оскорбительного обвинения в продажности выводит его из себя. То же в «Царе Эдипе» – в сцене героя с Креонтом во втором действии и во многих других местах.
В другом роде, но не менее художественна и благодарна постепенность в сцене признания Ореста и Электры – особенно если сравнить ее с параллельной сценой в «Хоэфорах» Эсхила; здесь постепенность даже двойная. Вернувшийся брат не начинает с прямого заявления: «Я – Орест», как у старшего поэта; он ведь не с тем пришел, чтобы открыться сестре: это намерение, или, вернее, эта психологическая необходимость возникает для него на наших глазах, во время трогательного плача Электры; и здесь, значит, мы должны представить себе живую немую игру брата в продолжение всей непрерывной речи сестры. Затем он старается внушить ей доверие к себе – или, вернее, это делает, бессознательно для него самого, все сильнее и сильнее пробивающийся поток его чувств. Затем зароняется подозрение, что он в родстве с ней, – что он имеет сообщить ей важную тайну, – что урна не содержит праха Ореста.
– Так где же его могила?
– Живым ее не сыплют.
– Так он жив?
– Если жив я сам.
– Так это ты? – И здесь только признание завершено.
Но я оговорился выше: постепенность соблюдена там, где она уместна. Иногда интересы драматизма требуют, чтобы мы не видели медленного собирания грозовых туч, чтобы гром грянул сразу из безоблачного неба, – и поэт это прекрасно понимает. Возьмем ту же «Электру» с ее двумя преступниками, Клитемнестрой и Эгисфом. Внезапно раздается слово обманчивой радости: «Орест погиб»; внезапно царица в мнимом вестнике из Фокиды узнает сына-мстителя; внезапно Эгисф в мнимом трупе врага обнаруживает убитую жену. Достигши полного умения изображать постепенность психологических переходов, Софокл одновременно достиг и того, что еще выше, – умения не пользоваться своим умением, где этого не велит интерес драматизма; и в этом отношении он остался поэтом-художником.
Мимоходом мы обнаружили еще одну особенность Софокловой драматической техники – живую мимическую игру не только говорящего в данную минуту лица, но и того, на котором должны отразиться его слова. И в этом отношении наблюдается прогресс в сравнении с Эсхилом. У того я не мог бы указать сцены, схожей по мимическому значению даже с названными сценами из «Антигоны» и «Электры», не говоря уже о еще более захватывающих – игре Иокасты во время сцены с Евфорбом в «Царе Эдипе» или игре Деяниры во время сцены с обоими вестниками. Действующие лица Эсхила – это мраморные кумиры: в величавой, царственной позе застыл Агамемнон во время длинной льстивой речи своей супруги; скорбящей матерью поникла царица Атосса во время рассказа вестника о поражении ее сына. У Софокла не то. Жизнь разлилась повсюду, все участвующие в действии ею охвачены. Маски… ах, да, актерам придется их надеть, во исполнение требования Дионисовой обрядности, как досадный пережиток анимистической уподобительной магии. Но поэт не думал о них, об этих масках, когда он создавал эти подвижные, эти изменяющиеся образы, эту убитую горем Электру, которая мало-помалу оживает на наших глазах, – загорается улыбкой надежды, затем радости и скоро с ликующим восторгом бросится на шею своему брату; или эту Иокасту, только что бросившую богам свой гордый вызов и постепенно никнущую, спускающуюся через все адские круги страха, тоски, отчаяния, вплоть до потрясающего: «Довольно, что страдаю я!» Какие тут маски! Поэт не думал о них, когда создавал свои образы, – и мы только тогда поймем его намерения, когда самым основательным образом о них забудем.