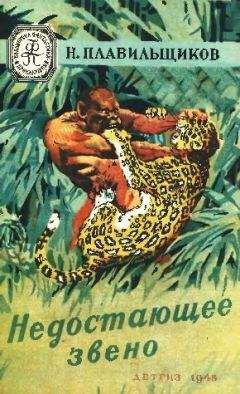А.Г. В связи с этим мне приходит такое соображение. Ведь должен существовать феномен, скажем так, фольклорной мимикрии. Я на себе, например, замечал несколько раз. Когда ты попадаешь в другой круг, особенно если этот круг резко отличим от того окружения, в котором ты обычно существуешь, скажем, ты приезжаешь в деревню. И я общаюсь с человеком, я знаю его десятки лет. Я волей-неволей мимикрирую, как мне кажется, фольклорно под него. Я описываю себя так, каким мне кажется фольклор этого человека. Потому что, в конце концов, ведь для меня и быт его, и нравы и все разговоры, которые он вёл со мной, и корова, которую он доит в 5 утра, а потом спать ложится до 8, это всё область фольклора.
К.Б. Ну естественно. Естественно, мы переключаем вот эти режимы нашего, так сказать, текстопорождения, нашего поведения. Это, собственно, то, о чём можно говорить много и долго. Причём интересно, что вдруг неожиданно, где-то в 60-70-е годы исследователи в разных областях знаний, и социолингвисты, и социологи, они одновременно стали говорить о таких контекстах или о таких моделях, которые в той или иной мере связывают разные поведенческие группы. Для того чтобы этой группе существовать, мы должны под эти модели как-то подстраиваться. Социологи говорят о режимах поведения. Социолингвисты говорят о специфических социолектах. Понятно, что каждый знает, что не материться в армии – довольно странно. А с другой стороны, материться на учёном собрании, тоже довольно странно. Это грубый пример, но, в принципе, он всё очень хорошо, мне кажется, объясняет. И в этом смысле фольклор, на мой взгляд, это такая текстовая практика, которая позволяет не просто организовать общение и каким-то образом выстроить эти контексты, а это ещё то, что позволяет спрогнозировать такое социально предсказуемое поведение. То есть я совершенно чётко знаю, что если я вхожу в ту или иную аудиторию, то если этот разговор будет или должен вестись на каком-то одном языке с этой аудиторией, то я должен пользоваться такими значениями и таким языком, который, в общем-то, заранее известен и той аудитории, и мне, как тому, кто в эту аудиторию входит. Таким образом, фольклор предоставляет его носителю, а каждый из нас является носителем фольклора, он предоставляет ему сферу таких подсказок, с помощью которых он может заниматься тем, о чём вы говорите, мимикрировать. Ну, может быть, это не самый лучший термин, но тем не менее, как-то подстраиваться под ту или иную аудиторию.
А.Г. Здесь тоже есть элемент шизофренического раздвоения, потому что осуществляя этот акт по отношению к деревенскому Славке, я в то же время вижу себя со стороны, контролируя своё поведение, оценивая степень приближения или удаления, одновременно оценивая новые фольклорные данные, которые он мне предоставляет. Причём предоставляет достаточно радушно. Он же, пытаясь считывать с меня информацию, тоже мимикрирует. И мы оказываемся в среднем пространстве каком-то. И он не он, и я не я. И мы сходимся в каком-то среднем поле, которое ни одному из нас не свойственно.
А.П. Но это ещё в лучшем случае. Это как раз нормальный, культурный контакт, даже политкорректный, я бы сказал. Тут ведь возможны две стратегии, вот то, о чём ты, Костя, говорил. Можно мимикрировать на основании какого-то просто внимания к той группе, к тому социуму, в который ты входишь. Ты как бы сначала молчишь и подслушиваешь их разговоры. Вот, ты попадаешь в армию, ты слышишь, как там матерятся, и начинаешь материться также. И это нормальная нормирующая структура. Но ты можешь прийти с каким-то априорным знанием, как раз тобой сконструированным, как надо материться, и тогда, тогда тебе может оказаться как раз плохо. И ситуация, кстати, с нашими фольклористами, так сказать, классическими, традиционными, как правило, второго порядка, то есть они приезжали к крестьянам, уже заранее зная, что такое фольклор, и как правило, именно поэтому их принимали то за фальшивомонетчиков, то за иностранных шпионов, пытались всячески их ловить, преследовать, бить и т.д.
К.Б. Да, да, да. На самом деле то, о чём вы говорите, это уже результат понимания этой разницы режима. В этом смысле, это одно из достижений, как раз таки фольклористики и этнографии, современной этнографии. Если мы отдаём себе в этом отчёт. Ну что же, в конечном счёте, психологи говорят, что шизофрения – это естественное состояние человека. А кто не шизофреник? Любой шизофреник. Если человек не обладает раздвоением личности, он, скорее всего, по настоящему заслуживает лечения. Подлинно цельного человека в социологическом смысле не существует, как кажется, потому что мы все время подстраиваемся под разные режимы.
И если уж говорить о таком эвристическом эффекте и о таком ассоциативном эффекте фольклора… Я думаю, самое главное – что он работает как постоянная модель, которая порождает возможности разных социальных контактов и при этом служит сферой тех самых подсказок, которые дают нам возможность существовать в этом шизофреническом режиме.
Отсюда опять же описание таких вещей, как очередь. Как-то сегодня все разговоры вертятся вокруг очереди. Очередь – это самый яркий пример, на мой взгляд, один из ярких примеров столкновения этих разнорежимных, разнопрецедентных текстов, каких-то поведенческих ситуаций и т.д. В разных очередях люди ведут себя по-разному. В западных странах так, здесь так. Это многократно описано. Но если ты вынужден стоять в очереди, ты невольно подстраиваешься под этот режим, существующий в очередях.
Вот так функционирует современный, мне кажется, фольклор. И более того, так вероятно, функционировал любой фольклор, и традиционный тоже. И та же былина, и та же историческая песня или просто песня лирическая, тот же заговор, ещё какие-то тексты, которые мы привычно называем фольклорными, в общем-то, могут быть исследованы не только с точки зрения эстетической функции или ещё чего-то подобного. Было бы смешно утверждать, что все фольклорные тексты прекрасны, мудры и т.д., и т.д. Интересно посмотреть на прагматику этих текстов. Но здесь важно уже говорить о методологии, в какой мере это изречение может быть подвёрстано к чему-то, могут ли быть найдены новые модели. И протест традиционных фольклористов, он мне тоже понятен, потому что пока таких методологий не существует. Негативного пафоса больше, чем позитивного.
А.Г. Хорошо, а подход к методологии в чём заключается?
К.Б. Должна быть, во-первых, более-менее однообразная какая-то шкала уже наработанных научных приёмов, как это есть с описанием былины. Мы можем её разложить на составные какие-то части, описать её текстологически, ещё как-то. Мы выделяем разные слои в тексте, как этнограф рассчитывает, скажем, структуру поведения, это тоже по аналогии с текстом. Он тоже раскладывает поведение на такие текстовые означающие.
В данном случае приходится идти методом «тыка». И здесь есть большая опасность, потому что что-то есть в области антропологии, что-то есть в области этнографии. Это очень существенная проблема.
А.П. Но сохраняется, собственно, и традиционная фольклористическая методология, структура текста, функция текста, какие-то внутренние модели. Но просто к этому приходится добавлять какие-то непосредственные социальные функции, если угодно. То есть, действительно, бессмысленно говорить о том, что весь фольклор прекрасен или весь фольклор мудр. Это как раз чисто романтическая иллюзия. Фольклор важен для романтизма, потому что он прекрасен, и потому что он мудр, что он репрезентирует какую-то иную мудрость, древнюю или наивную, или какую угодно ещё. А на самом деле, он всё-таки выполняет какие-то прежде всего социальные функции, идеологические функции. Почему-то объединяет этих людей, этих крестьян в этой деревне. Это определённая методологическая перспектива, искать, прежде всего, вот эти вещи. И мне кажется, что у Кости как раз в книге это показано.
К.Б. Я не склонён думать, что, скажем, социологическое направление, единственное и естественное. Но такой социологический пафос, мне кажется, всё-таки избавляет нас от такого олитературивания предметов фольклора. Потому что получалось и получается до сих пор нелепая ситуация. Песня изучается как музыковедами, так и филологами. В конечном счёте, что такое песня решительно не ясно. Если же мы задаёмся вопросом о каком-то социальном функционировании песни, то что-то становится на свои места. Вот, например, не так давно появилась очень дельная статья Николаева, который писал о том, что, в сущности, в застолье не нужно знать полного текста песни. Такие наблюдения над функционированием песен, они показывают, что иногда достаточно знать первую строку или две строчки. В общей толпе идёт, что называется, запевание и запивание, но этого достаточно, потому что сама ситуация песнопения за столом, она уже позиционирует ситуацию коллективного единства, коллективного какого-то единения, общности той группы, которая таким образом себя репрезентирует как группу. И вот это никогда не акцентировалось в традиционном изучении фольклора. Всегда ищутся какие-то вещи, которые доказывают эстетические красоты, и в этом смысле элиминируется всё то, что входит в контраст с этими красотами.