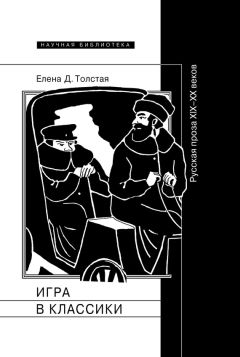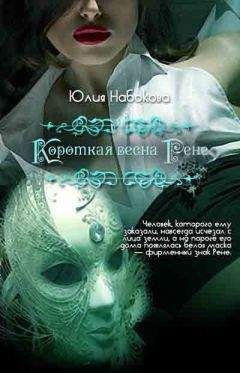Ознакомительная версия.
Шубин дразнит приятеля, причем довольно жестоко: «– Ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не которыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства!» (3, 28). «Среднего» рифмуется с «умеренный» и звучит обидно и точно, а также напоминает о роли «посредника», уготованной молодому ученому: Шубин называет его «будущий посредник между наукой и российскою публикой». Берсенев признает его правоту и сокрушается, что ему «на роду написано быть посредником» – и в науке, и в любви. Не сказано, но присутствует у порога сознания и слово «посредственность».
Мать Берсенева рано умерла, и нежной любви к себе он не испытал даже ребенком. Тут опять контраст между ним и Шубиным – отец того умер, но он получил максимум любви от матери:
Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год (3, 21).
Счастливый характер Шубина, несомненно, связан с той любовью и полной поддержкой, которую давала ему мать. Когда он стал взрослым, она умерла, и у него не возник комплекс «единственного сына одинокой матери», которому кроме нее никто не нужен – он открыт для новой любви, порою даже слишком открыт.
Если учесть, что Тургенев работал еще до становления современной психологии, его, наряду с Достоевским, придется признать одним из ее провозвестников: у него будущие психологи могли прочитать о влиянии наличия или отсутствия одного либо обоих родителей на характер ребенка.
Смесью зависти, озлобленности, мазохизма и саможаления – типичным ресентиментом, унаследованным от отца, которого он цитирует, проникнут последний внутренний монолог Берсенева:
Я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, – мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие! (3, 123).
Как будто не он сам предпочел такое существование. В эпилоге романа Тургенев уже подсмеивается над адептом чистой науки. Впрочем, он норовит под занавес умалить и Шубина – устами Берсенева, который весьма скептически прогнозирует его будущее: «Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!» (3, 16). Действительно, скульптор склонен к компромиссам; в начале романа выясняется, что выданные ему на поездку в Италию деньги он истратил на путешествие в Малороссию, а влюбленность в Елену не мешает ему приударять, так сказать, за всем, что движется.
Берсенев напророчил – Шубин в Италию поехал, но не сумел избавиться от владеющего им духа компромисса:
Шубин в Риме; он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят, что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было купить ее за тысячу скуди, но предпочел дать три тысячи другому ваятелю, французу pur sang[104], за группу, изображающую «Молодую поселянку, умирающую от любви на груди Гения Весны» (3, 163–164).
Из этого пассажа нетрудно понять, что полуфранцуз Шубин придерживается компромиссной «золотой середины» между «чистым искусством», то есть классицизмом, и натурализмом (такое направление в искусстве середины XIX века так и называлось «Le juste milieu»), но что ему все же далеко до чистокровного француза с его апофеозом махровой пошлости.
Инсарова ни один из критиков не счел тургеневской удачей. Все писали, что фигура эта бледна и неубедительна. Возможно, причиной тому была недостаточная заинтересованность писателя славянским вопросом и его нежелание чересчур солидаризироваться с официальной позицией: ведь гонения турок на болгар, вполне реальные, были использованы Николаем I как предлог для территориальной экспансии – Россия отняла у Турции Валахию. Своему читателю Тургенев поведал об этом в следующей дипломатичной форме: «Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась. Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома» (3, 133)[105]. Ни слова о том, что Турция объявила войну в ответ на российскую агрессию. Дело шло к Восточной войне (в России она называлась Крымской).
Болгары, кстати сказать, тогда боялись русского крепостного права больше, чем турецкой аренды и эксплуатации. Тургенев неохотно входил в детали, боясь выглядеть апологетом николаевской политики, особенно после катастрофы 1855 года. Как бы то ни было, болгарское освободительное движение оставалось единственным, о котором в России дозволялось писать сочувственно. Настоящее расположение Тургенев – как, собственно, и вся Европа – питал к освобождению и объединению Италии. Он восхищался движением Гарибальди; и как раз когда писался роман «Накануне», Наполеон III праздновал свой триумф в Париже по поводу разгрома в союзе с Гарибальди австрийцев в Италии. В сущности, тургеневская Болгария – лишь псевдоним Италии, а Елена едет с Инсаровым на войну, как жена Гарибальди Анита Рибейра (†1849), воевавшая вместе с мужем.
Боткин выразил общее мнение:
Правда, что несчастный болгар решительно не удался; всепоглощающая любовь его к родине так слабо очерчена, что не возбуждает ни малейшего участия, а вследствие этого и любовь к нему Елены более удивляет, нежели трогаъет[106].
Нечто сходное утверждал и Добролюбов:
…этот Инсаров все еще нам чужой человек. Сам г. Тургенев, столь хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его нашим. Мало того, что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека[107].
Он жалел, что Тургенев не показал героя в деле. Действительно, инсаровские интересы представлены вкратце и вчуже:
Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил не спеша о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове (3, 53–54).
Помимо этого, дан только один патриотический монолог героя – его ламентация на гражданскую тему:
Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело, – у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут… (3, 66).
Писателю был нужен не Инсаров-герой, а Инсаров-мученик, и он последовал за попавшей ему в руки прототипической повестью офицера Каратеева, о которой известно из предисловия Тургенева к собранию 1880 года, о студенте-болгарине и его русской жене. Эту повесть Тургенев пытался опубликовать, но Некрасов ее не взял.
П. В. Анненков характеризовал сочинение Каратеева местами юмористически: «Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить»[108]. Стремительно расправляется со своим героем и Тургенев. Инсаров едет на извозчике за фальшивым паспортом для Елены и попадает под дождь. При этом у пролетки почему-то нет верха, а у героя – зонтика. Он простужается и чуть не умирает от воспаления легких, которое дает начало чахотке. Все это крайне озадачивает, если вспомнить, что с восьми лет Инсаров рос у тетки в Киеве, а потом учился в Москве и потому уж никак не мог бы пенять на непривычно суровый климат. Ничто не предвещает такого поворота дел для тренированного болгарина, занимающегося гимнастикой и совершающего дальние пешие походы; незадолго до своей болезни он на глазах у зрителей вмиг управился с агрессивным великаном. Более того, однажды он уже попадал под проливной дождь на лесной дороге, где его подкарауливала Елена, что имело известные матримониальные последствия; тогда дело обошлось без каких-либо медицинских осложнений.
Болгарин дан одновременно как русский и как иноземец: «Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем, приятный голос звучал чем-то нерусским» (3, 35–36). Иностранность или, скорее, общую экзотичность его облика маркируют, во-первых, южные черты: «нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы» (эти прямые волосы иррадиируют, добавляя в облик героя смысл «прямизны» – как потом ощутит читатель, это прямизна во многих смыслах сразу); во-вторых, резкость, чрезмерная очерченность портрета: «черты лица имел он резкие»; «прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких жестких, слишком отчетливо очерченных губ»; в-третьих, суровая сосредоточенность: «пристально глядевшие, углубленные глаза» под густыми бровями (Там же). Шубин сравнивает его с Берсеневым: «у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть». Но далеко не сразу читатель сделает ввод, что резкость черт, скульптурность Инсарова есть полная завершенность личности, отличающая от его русских приятелей – милых байбаков.
Ознакомительная версия.