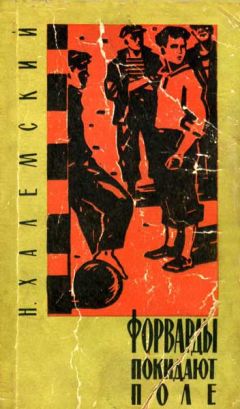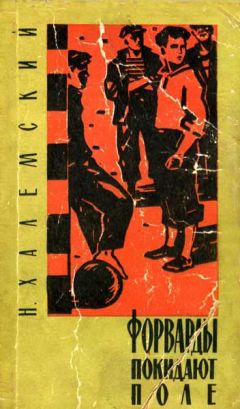Кто же открыл старику мою тайну? Мама, наверное. Мне всегда невыносимо тяжко слушать его упреки.
— Нечестные деньги, — продолжал он, — всегда принуждают человека лгать. А ложь, как известно, тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее из него выбраться. Между прочим, лгунишка почти всегда труслив как заяц.
Я посмотрел на отца удивленно. В чем угодно можно меня обвинить, только не в трусости.
— Мне всегда казалось, будто ты смелый. Ошибся, значит.
Я недоуменно пожал плечами.
— Ударить связанного — все равно что побить грудного младенца.
— Ты все видел?
— Не слепой я. На мосту стоял.
— Но ведь Седой Матрос приказал…
— Приказал? — переспросил отец. — На него похоже. А если он прикажет побить беззащитную девчонку?
Я молчал.
— Мне нисколько не жаль Керзона. Трутень он и мерзавец, отлупить его, может, и полезно, но чем же ты лучше этого типа, если сам пользуешься его приемами?
— Он ударил меня, когда я снимал рубашку… Матрос такого не прощает.
Отец перебил меня:
— До чего благороден твой Матрос! Берегись его. Завтра скажет: «Идем на дело».
— Что ты, папа!
— Он вдвое старше тебя. Какой он вам всем товарищ, этот человек? Я стоял на мосту и думал: вот сейчас мой сын не испугается Матроса, а смело бросит ему в лицо: «Нет, не стану я бить лежачего». А ты как слепой котенок… Противно!
Старик махнул рукой и, покачивая баульчиком, пошел своей дорогой.
Во мне боролись и стыд за происшедшее, и облегчение от сознания, что бате уже все известно, и злоба на Керзона, и обида за подбитый глаз и разодранную рубашку.
Я все еще держал в руке пачку «Раскурочных», не зная, куда ее девать. Раз дал отцу слово не курить — делать нечего. Я прошел к старому дубу и спрятал папиросы в дупло. Пригодятся Степке, да и мне… Ведь не так легко сразу, в один день, покончить с этим делом.
Появиться в нашем дворе с малиновым фонарем под глазом и с рассеченной губой не больно весело, соседушки почешут языки. И пусть болтают сколько душе угодно. Чего только нс придумают, фантазии у них хватит. Меня мучит другое. Почему все мои попытки облегчить жизнь родных, сделать доброе дело обычно кончаются крахом? Кому по нутру праздная жизнь? Разве лень побудила меня отбывать чужое наказание? Право, легче отбывать принудиловку, чем изо дня в день без толку ходить на биржу труда.
Завтра я снова пойду на Московскую улицу и вместе с другими буду часами торчать в прокуренном зале, тщетно надеясь получить работу. В прошлом году в стране был миллион безработных. Сколько в этом году — газеты не пишут, но в общем немало. А подвернись место хоть чернорабочего — и все сразу бы устроилось.
В такие минуты я чувствую себя безнадежно одиноким и несчастным. Почему мир не устроен по-иному? Людей должно быть не больше, чем требуется рабочих и всяких других трудящихся, я так считаю. Наверное, нельзя отрегулировать такую пропорцию. В общем, на земле царит ужасная неразбериха.
Во дворе у нас, как всегда, шумно. Соседи громко переговариваются, высунувшись из окон. При моем появлении они точно онемели. Их явно занимает истерзанный вид Вовки Радецкого. С напускной развязностью, насвистывая «Кирпичики», прохожу под окнами пани Вербицкой и мимо красавицы Княжны. Она высунулась из окна бесстыдно оголенная, в ночной сорочке, курит папироску и машет мне рукой:
— Зайди покурить, малыш!
Я подавляю желание взглянуть на ее плечи и спешу домой. Кто-то торопливо спускается по лестнице. На втором этаже обнаруживаю, что это Зина, Зина Шестакович из нашей школы, из 7-б класса, председатель учкома, всегда нетерпимо относившаяся к моим проделкам. Зачем она здесь? Жизнь полна неожиданностей… Стараясь держаться независимо, я холодно поздоровался. Зина не обратила никакого внимания на каменное выражение моего лица. Я всегда испытывал непонятно тревожное чувство при встрече с Зиной и робел, как жалкий пацан. Правду сказать, во всех моих проделках в школе она тоже была повинна: мне всегда хотелось привлечь ее внимание своей силой, ловкостью и бесстрашием.
— Вова, милый, как я рада, все-таки дождалась тебя, — щебетала она, словно мы были самыми близкими друзьями.
Где-то в глубине души поднималась радость. Зина, обычно не замечавшая меня, хотя мы учились вместе начиная с третьего класса, Зина, в чьих серых глазах я всегда читал осуждение, вдруг пришла ко мне домой. Что случилось? Она, наверное, заметила мое недоумение и сразу перешла к делу.
— Твоя мама все уже знает, — я почувствовал тепло ее ладони на своем локте, — меня прислал Тимофей Ипполитович.
— Таракан? — удивился я.
Зина скорчила недовольную гримаску, и от этого лицо ее стало еще милее.
— Нехорошо, Вова! Физик не заслужил такого прозвища. Честное ленинское — он тебя так жалеет…
— Жалеет? — вспыхнул я. — Меня нечего жалеть — я не калека…
Теплой и нежной рукой она захватила мои пальцы и примирительно сказала:
— Ты ужасно обидчив. Тимофей Ипполитович, ну пусть Таракан, если тебе уж так хочется, послал меня узнать, работаешь ли ты.
На лестничной площадке царил полумрак, и ее серые глаза приняли зеленоватый оттенок, молочно-белая кожа казалась бархатисто-смуглой, а гладко причесанные светлые волосы отливали медью.
Зина вышла из тени и присела на широкий подоконник, натянув на округлые колени синюю юбку. Сейчас, в полосе света, она стала еще привлекательней.
— Боже, Вова, кто тебя так разукрасил?
— Буза, случайно упал, — отмахнулся я, пытаясь рукой прикрыть разорванную рубашку.
Зина с несвойственной ей фамильярностью подтолкнула меня к свету и стала бесцеремонно разглядывать припухшее, в кровоподтеках лицо. Затем, укоризненно покачав головой, достала из своей вязаной миниатюрной сумочки зеркальце и протянула мне.
— Ты все такой же несносный драчун. Погляди на себя. Мама его ждет не дождется. Ну и порадуется она такому сыночку!
Зина рассматривала меня, будто музейный экспонат. А я, обычно не терпевший вмешательства девчонок в свои дела и отвечавший на это грубостью, робко и смиренно слушал ее нотации. Действительно, мое отражение в зеркальце было мало привлекательным. И надо же было Зине прийти именно сегодня, сейчас!
— Тебе необходимо умыться, — помолчав, сказала она.
— Угу… — согласился я, — у пас на черном дворе кран…
— Пойдем вместе.
— Зачем? Ты обожди, я мигом…
Пройти с Зиной под любопытными взглядами соседей казалось невозможным. Я оставил ее на лестнице, а сам метнулся через подъезд на черный двор, отвернул кран, сбросил рубашку и, положив ее на козлы для пилки дров, подставил разгоряченную голову под струю воды. Распрямившись и открыв глаза, я увидел Зину. Она сидела на бревне и зашивала мою рубашку.
Зина откусила белыми ровными зубами нитку, исподлобья взглянула на меня и опросила:
— Ты увлекаешься спортом?
— Спортом? — переспросил я. — В футбол играю, занимаюсь боксом.
— То-то тебя так отбоксировали, — рассмеялась она. — Родная мать не узнает!
— Узнает! Ты ведь узнала.
— Не без труда. А рубашку разодрали по всем правилам бокса.
Откровенно говоря, мне нравились ее ворчливые заботы, насмешливые искорки в глазах и даже ирония.
Наконец она протянула мне наспех зашитую рубашку.
— Попробуй надеть, только осторожно! Тебе нужна одежда из железа. Ну и мускулы! Точно крокетные шары.
Хм, крокетные шары… Все же высокий и худосочный Севка Корбун, сын директора нашей школы, нравится ей, очевидно, больше меня.
Зина подвинулась на бревне, я сел рядом.
— Тимофей Ипполитович, — начала она, — ходил в секцию подростков биржи труда, чтобы устроить тебя на работу.
— Кто его просил? — вырвалось у меня.
— Ты злой и неблагодарный.
— Спасибо!
— Старый учитель старается тебе помочь, а ты платить за это черной неблагодарностью. Мне кажется, его заботы именно тем и хороши, что никто его не просит. По его настоянию тебя зачислили в броню ста.
— Что это за броня?
— Сто подростков, которых в первую очередь пошлют на работу. Теперь тебе надо обратиться к руководителю секции подростков и напомнить о себе.
— Могу сходить.
— Как же мне узнать о вашем разговоре? Вот что. Приходи, Вова, в клуб металлистов. По вечерам я всегда бываю там. Можешь считать, — улыбнулась она, — что я назначаю тебе свидание.
Зина поднялась и протянула мне руку. Я не стал ее провожать, а смотрел вслед, пока она не скрылась в подъезде.
Летом я обычно сплю на балконе. Только в те ночи, когда небо заволакивает тучами, ложусь в комнате на полу. Спать валетом в одной постели с Мишкой невозможно. Он так и норовит пристроить свои ноги на моей голове. На балконе никто не мешает курить, размышлять о том, о сем. Фантастические грезы перед сном — самые сладостные минуты. Впрочем, иногда меня занимают и будничные дела. Вот и сегодня я ворочаюсь на жесткой постели, не могу уснуть и долго гляжу в звездное небо, перебирая в уме все свои заботы. Необходимо уговорить старшего брата, Анатолия, дать мне на один вечер ботинки: не могу же я пойти в клуб металлистов на концерт «Синей блузы» в своих полуразвалившихся, перевязанных шпагатом. Может быть, лучше днем, когда Толя на заводе, унести его ботинки в сарай, а вечером надеть — и в клуб. Драться со мной Толик не станет, не так уж легко ему теперь совладать со мной. Значительно больше беспокоит меня предстоящий матч с «Гарибальдийцем». Последнее время капитан «Молнии» Федя Марченко поглядывает на меня косо и явно отдает предпочтение Олегу Весеннему. От капитана с его несносным характером можно ждать чего угодно. Поставит играть центром форвардов Олега — и можете жаловаться хоть самому Ллойд-Джорджу. Будь моя воля, перевел бы Олега в полузащиту — ведь он прирожденный хавбек. Для форварда у него не хватает главного: в решающую минуту, когда всю волю, всю энергию необходимо вложить в рывок к воротам противника, Олег теряется. А потом любит сваливать с больной головы на здоровую…