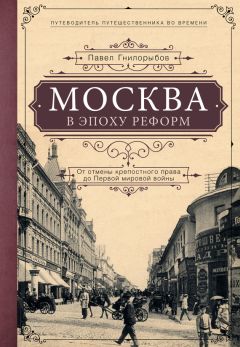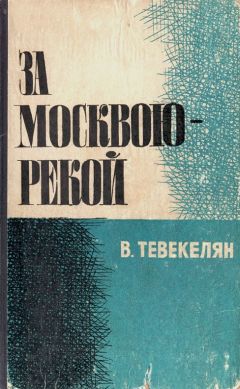«Метрополь». Красоту всегда пытаются ранить. «Метрополю», крупнейшему памятнику модерна, крупно не везло. Сначала обанкротился Савва Мамонтов, стройка почти остановилась, потом в здании произошел крупный пожар. Но в итоге первоклассную гостиницу открыли в 1905 году. Ресторан со стеклянной крышей, крупный кинотеатр, мозаика на фасадах – визитные карточки.
«Большая Сибирская». Гостиницу в районе Маросейки возведут на деньги богатого купца Николая Стахеева. До делового центра Москвы, Китай-города, несколько сотен метров.
«Дрезден». Классическая гостиница на Тверской плошади. Вид на конный памятник генералу Скобелеву и дворец генерал-губернаторов. Здешний комфорт до революции успели оценить Пирогов, Суриков, Тургенев и Чехов. Дерут за номер до 35 рублей.
«Националь». Лучший вид на Кремль. Цена, правда, кусается – верхний потолок составляет 40 рублей. 160 комфортабельных номеров. Идиллия, правда, продлится недолго. Большевики сделали «Националь» 1-м Домом Советов. Самый знаменитый постоялец – Ленин.
«Боярский двор». Место надежное, расположена гостиница прямо за Китайгородской стеной. Высокая архитектура в плюс – строил сам Федор Шехтель. Здраво оцените собственные запросы и приготовьте от трех до пятнадцати рублей.
«Берлин». Место не из вершины списка, но довольно приличное. От скромного здания на Рождественке рукой подать до Сандуновских бань, ресторана Люсьена Оливье и центральных пассажей. Номера – от двух до восьми рублей.
«Деловой двор». Современная, пусть и несколько тяжеловесная гостиница. Инвестор – самый богатый человек в России, Николай Второв.
«Лоскутная». Название ласкает ухо после всех обезличенных «Националей» и «Метрополей». Вот оно, настоящее московское гостеприимство. Телефоны в каждом номере, электричество, мебель работы фабриканта Шмидта.
Меблированные комнаты. Учету практически не поддаются, плодятся с каждым годом. Презрительно именуются «меблирашками», но цена демократична: от 75 копеек до 5 рублей в сутки. Здесь предпочитают останавливаться холостяки со средним и скромным достатком, иногда комнаты снимаются годами. «Меблирашки» популярны и у творческой интеллигенции, газетной братии. Чехов отмечает: «Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их – мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилище – меблированные комнаты, способ передвижения – пешее хождение».
II
Шестидесятые и накануне
Волшебный град! Там люди в деле тихи,
Но говорят, волнуются за двух,
Там от Кремля, с Арбата и с Плющихи
Отвсюду веет чисто русский дух;
Всё взоры веселит, всё сердце умиляет,
На выспренний настраивает лад —
Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,
И сорок сороков без умолку гудят.
Н. А. Некрасов
Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Е. А. Баратынский
«Для путешественника любо, когда он проезжает чистым, веселым городом, в котором можно остановиться в удобной гостинице и поесть хорошо, и потолковать с ловким прислужником о местных достопримечательностях. Такой город непременно покажется ему цветущим в торговом и промышленном отношении, так он его и занесет в свои записки», – иронично замечал А. Н. Островский[2]. На рубеже 1850–1860 годов столица по-прежнему поражала немногочисленных туристов колокольным звоном и обилием золотых маковок. Однако первое впечатление часто разбивалось о кривые улицы, скверные мостовые и прочие пикантности, невидимые издалека. «В ней можно восхищаться лишь тем, что кажется, напр., видом с Кремлевской набережной на Москворечье, но не тем, что есть в ней внутри, ибо внутри грязь и сор и духовные и материальные», – писал о Москве В. Ф. Одоевский.
Потеря столичного статуса отразилась на внутреннем состоянии города. Москву стали воспринимать как тихое место для окончания дней своих, карьеру предпочитали делать в Петербурге. Впрочем, верноподданническая литература нисколько не обижалась: «Повинуясь неисповедимым судьбам Божиим, помня, что и ей били челом когда-то Великий Новгород, Тверь и Владимир, в свою очередь, без ропота склонилась она пред молодым, щеголеватым Петербургом, уступила ему право на главу России, сама же осталась одним сердцем ее»[3]. Аполлон Майков выразил народные настроения стихами:
Давно цари России новой,
Оставив стольный град Москвы,
В равнинах Ингрии суровой
Разбили лагерь у Невы;
Но духом ты, Москва, не пала
И, древнею блестя красой,
Ты никогда не перестала
Быть царства нашего душой…
Москва при этом не переставала быть центром российской провинции, о чем пишет географ В. Л. Каганский. Постоянное соперничество двух городов, Москвы и Петербурга, он сравнивает с эстонским феноменом Таллин – Тарту. И. С. Аксаков, кстати, был благодарен Петру за 150-летнюю передышку для родного города: «Тем свободнее могла производиться в Москве работа народного самосознания и очищаться от всех исторических случайностей и всякой исключительности русская мысль. Москве предстоит подвиг завоевать путем мысли и сознания утраченное жизнью и возродить русскую народность в обществе, оторванном от народа. Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одною жизнью, одним биением сердца, – и этими словами само собою определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу»[4].
Москва будто вырастала из губерний Центральной России и жадно сплетала в один узел все тропы и тракты. Она представлялась городом законченным, самодостаточным, на осмысление которого приходилось потратить не один год. Здесь, в домике на Басманной, совсем отчаялся оторванный от Европы Чаадаев, но и Катков питался в Москве излишними надеждами. Славянофилы в своем неприятии Северной столицы доходили до гротеска: «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими».
Пушкин предвидел многие процессы, окончательно взявшие верх во второй половине XIX века. Александр Сергеевич едет по символической дороге из одной столицы в другую, отдавая дань памяти Радищева: «Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою… Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».
Старики ценили Москву за обилие садов и зелени, относительно здоровый климат, не идущий в сравнение с петербургским. Общественная жизнь, правда, не радовала разнообразием. Балы и театры посещали только избранные, а простой москвич выбирал между гуляньями, крестным ходом и посиделками в трактире. «…Я, если и не совсем покойница, но решительно похоронена в грязи, соре и запустении того, что смеют звать московской жизнию. Хороша жизнь!.. Стоит смерти, но не имеет ее выгод, – уединения и молчанья!» – возмущалась Евдокия Ростопчина в конце сороковых годов[5].
Иногда одуревающих от скуки горожан развлекал приезд панорамы «знаменитой американской реки Миссисипи» или верблюд с пуделем, играющие в домино на Рождественке[6]. Чахленькие бульвары, сады, улочки летом превращались в сплошной цветущий сад. Д. И. Никифоров сравнивал Москву с большим селом – город в теплый сезон покидали дворяне, крестьяне, студенты, чиновники. Николаевская эпоха как будто остановила время: «Вставали на восходе, ложились на закате. Движение было только в городе, да на больших улицах, и то не на всех, а в захолустьях, особенно в будни, целый день ни пешего, ни проезжего. Ворота заперты, окна закрыты, занавески спущены. Что-то таинственное представляло из себя захолустье. Огромная улица охранялась одним будочником. Днем он сидел на пороге своей будки, тер табак, а ночью постукивал в чугунную доску и по временам кричал во всю глотку на всю улицу: «По-сма-три-вай!..» Хотя некому было посматривать и не на что: пусто и темно, только купеческие псы заливались, раздражаемые его криком»[7].