Лессинг пропустил мимо ушей высокомерие, прозвучавшее в вопросе герцога, заметил мимоходом, что в этом деле не стоило так уж торопиться, и наконец, как бы в пояснение, заявил, решительно глядя герцогу прямо в глаза:
— Умных людей слишком мало, чтобы они могли всякий раз давать отпор фатовству, едва оно проявится. Достаточно и того, что они не доводят дело до истечения срока давности…
— Фатовству? — переспросил герцог ледяным тоном.
— Это всегда фатовство — толковать о вещах, в которых так мало смыслишь.
— Но нельзя все же не учитывать, о чьем фатовстве идет речь, — вскипев, произнес герцог и в озлоблении удалился.
Это была все та же старая спесь, и Лессинг спрашивал себя, что еще удерживает его в этой стране.
Как же он, однако, удивился, прослышав позже у Эшенбургов, будто Дейвсон со своей женой все еще, а может, уже опять находятся в Брауншвейге. Он отправился к ним, и там состоялся долгий разговор, который не слишком его воодушевил, ибо супруги в один голос сетовали на то, что человека с пустыми карманами нигде не жалуют.
Вечером Лессинг пошел к Рёнкендорфу в «Большой клуб» и повстречал там аббата Иерузалема, который лично вручил ему экземпляр своего трактата «О немецком языке и литературе». Лейзевиц тотчас ухватился за него и все читал и не мог оторваться, так что пришлось ему напомнить, что сей трактат аббата предназначался Лессингу.
На другой день, во время нового визита к Дейвсонам, с Лессингом случился приступ слабости, ему было так плохо, что пришлось его отвезти на квартиру, где он остановился. На некоторое время он утратил способность говорить.
Из Вольфенбюттеля вызвали Мальхен. Она тоже поселилась у Анготта, чтобы ухаживать за отцом. В конце концов ей удалось уговорить его посоветоваться с врачом. Но лейб-медик Брукман, имевший в Брауншвейге весьма солидную репутацию, не знал никаких других средств, кроме тех, что уже применялись вольфенбюттельским домашним врачом Лессинга. Он пустил кровь и распорядился положить вытяжной пластырь.
Однажды у Лессинга пошла горлом кровь. Но он сохранил полное спокойствие и не выказал ни малейшего испуга.
Спустя несколько дней он, казалось, несколько оправился. Слуга помог ему одеться, и он принял посетителей, ожидавших его в соседней комнате. В дальнейшем Лейзевиц, Дейвсон и Эшенбург стали наведываться почти ежедневно. Лессинг смеялся и шутил с ним, как раньше. Дейвсон прочитал ему вслух трактат аббата против короля Фридриха, и Лессинг заметил, что аббат весьма успешно справился с этим делом.
Однажды пришло письмо из Веймара. Оба Хеннеберга сами принесли письмо Лессингу, «чтобы оно по ошибке не попало по неверному адресу». Лессинг не знал, чему больше радоваться — письму или приходу друзей. Георг Хеннеберг — приветливый, улыбающийся, внимательный — молчал, пока его брат рассказывал, будто сам господин фон Харденберг выразил сожаление в связи с отсутствием Лессинга в «Большом клубе».
— Да что вы! — ответил довольный Лессинг и сломал печать.
Гердер отослал письмо из Веймара 9 февраля 1781 года, и Лессинг с превеликой охотой ответил бы старому верному другу, но зрение ему отказало.
Мальхен поняла, что отец пока еще совсем не готов к переезду. Так что, видимо, придется им выжидать и третью неделю у купца Анготта в Брауншвейге.
Утром 15 февраля к Лессингу заглянули Эшенбург и Лейзевиц и, обрадованные тем, что нашли его таким бодрым, засиделись долго.
Потом, во второй половине дня, наведался Дейвсон и принес «Геттингенский журнал» Шлёцера, где ему попалась на глаза полемическая статья, которую он, как обычно, тут же прочитал вслух. Острота Шлёцеровой полемики обрадовала Лессинга.
— Теперь я начинаю понимать, — сказал он, — что дух разумного противоречия не умрет вместе с протагонистом.
— Умрет? — по-детски испуганно взглянул на него Дейвсон.
Лессингу пришлось лечь в постель.
Принимать посетителей было ему не по силам. Он снова начал задыхаться. Лейб-медик Брукман называл это состояние «астмой» и считал, что оно может только еще больше усугубиться.
Лессинг, должно быть, дремал, когда Мальхен склонилась над ним и тихо сказала, что в комнате для посетителей дожидаются аббат Иерузалем и профессор Шмид.
— Теология в полном составе? Почему так поздно? — очень медленно спросил Лессинг, — ему было трудно говорить. Он был точно оглушен. К тому же, видимо, наступил вечер, сумрак в комнате невозможно было объяснить только лишь слабым зрением.
Мальхен зажгла свечу, но спросила, не лучше ли будет, если отец попросит этих гостей прийти на следующий день. Она же видит, в каком он состоянии.
— Сколько на часах?
— Около семи, дорогой отец.
— В таком, случае посетителей спроваживать не годится, — сказал Лессинг, тяжело дыша. — Пожалуйста, Мальхен, побудь пока с ними. Я приду.
Но отец лежал, откинувшись на подушки, такой немощный и бледный, что у дочери навернулись слезы на глаза, когда она послушно вышла.
Вскоре открылась дверь, и Лессинг переступил порог. Его лицо было мертвенно бледно и покрыто холодным потом.
— Отец! — испуганно прошептала Мальхен. Но он только ободряюще сжал руку дочери и крепко за нее ухватился. С немыслимым усилием он поклонился пришедшим к нему друзьям. Тут у него закружилась голова, и пришлось прислониться к дверному косяку.
Мальхен тихо заплакала. Но отец ласково сказал:
— Успокойся, не тревожься!
Он дал уложить себя в постель, и пока Мальхен просила гостей наведаться в другой раз, Дейвсон начал, как обычно, читать вслух. Его прервал предсмертный хрип.
Все было кончено.
В траурной процессии, двигавшейся в сторону брауншвейгского кладбища Магни, кроме приемных детей Лессинга — Мальхен, Энгельберта и Фрица, — шли только самые верные его друзья: Эшенбург, Шмид и Дейвсон, да еще Эберт, Лейзевиц и Кунтч.
Рассказывают, когда процессия приблизилась к подвалам булочнике Денеке, тот будто бы крепко-накрепко запер все двери и ставни на окнах из отвращения к вольнодумцу Лессингу.
ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН
ЖИЗНЬ ЖАН-ПОЛЯ ФРИДРИХА РИХТЕРА
Перевод с немецкого Е. Кацева
издание второе
Заклинаю тебя (иначе я явлюсь тебе с того света), чтобы после моей смерти ты написал обо мне словами грубыми и откровенными, а не отвратительно-провинциально-сладко и деликатно. О, я прошу тебя; и пусть эти строки станут эпиграфом к твоему сочинению.
Жан-Поль Кристиану Отто, 1802Ребенок появился на свет ночью, в час тридцать. Он остался в живых, он здоров, что в те времена вовсе не было само собой разумеющимся. Из семи детей, рожденных в браке Розиной Рихтер, двое умерли в первые же дни. По статистике это примерно соответствует средней детской смертности.
Гигиенические условия, особенно в деревне и в таких захолустных местах, как Фихтельгебирге, чудовищны, акушерки вовсе не обучены или обучены плохо. В простых семьях врачей к роженицам почти не зовут. Ведь врачи — мужчины, и обращаться к ним считается неприличным. Прошло уже девять лет, как первая женщина сдала экзамены по медицине, но пройдут еще десятилетия, прежде чем у нее появятся последовательницы. Когда читаешь в йенском «Альманахе для врачей и неврачей» за 1789 год, что протестантские церковные консистории под угрозой наказания приказывают акушеркам «прежде всего бежать за проповедником, а не хвататься за клистирную трубку и пытаться спасти жизнь», то это хорошо характеризует помехи на пути прогресса медицины.
Неправильный уход за новорожденными тоже часто ведет к смерти. Опасаясь, что от крика они могут получить грыжу, окриветь, охрометь, стать горбатыми, их так туго пеленают, что они не могут шевельнуться. Многие гибнут от перекармливания мучной кашей. Им легкомысленно дают как снотворное водку и маковый отвар.
Ночь на 21 марта. Вместе с ребенком приходит долгожданная весна. Тем более что жизнь горожан все еще зависит от смены времен года. Зимой по улицам едва пройдешь. В слишком тесных домах обывателей редко отапливается больше одной комнаты. Свечи, лучины или масляные светильники дают жалкий свет. Понятна радость, с какой Жан-Поль даже в старости постоянно подчеркивает, что весна и его жизнь начались одновременно. Равноденствие ему кажется связанным с его «двойственным стилем» — юмористически-сатирическим и патетически-сентиментальным, он перечисляет перелетных птиц, которые прилетели вместе с ним, и приводит названия растений, чьими цветами можно было бы усыпать его колыбель: чистяк весенний, полевая вероника или волдырник — названия, которые звучат так, словно он сам их придумал.
Прочитать это можно во фрагменте автобиографии, опубликованном лишь после его смерти. Заглавие, придуманное не им, вызвало негодование Гёте. После «Поэзии и правды» старик воспринял заглавие «Правда из жизни Жан-Поля» как дерзкое противопоставление. Жан-Поль сделал это «из духа противоречия», сказал он Эккерману. В то время как автобиография Гёте «благодаря возвышенным тенденциям поднимается из сферы низкой реальности», Жан-Поль остается в ее плену. «Словно правда такого человека может быть чем-то иным, чем свидетельством, что автор был филистером!» Приговор суровый и неверный, но он превосходно определяет разницу между ними.
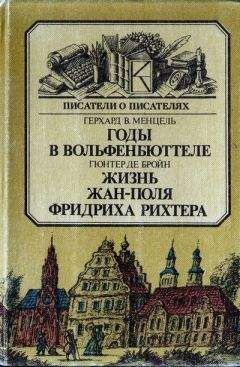
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



