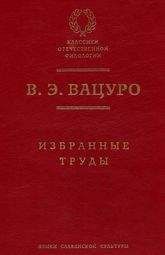Ознакомительная версия.
Знаменитый дом-коммуна, построенный Моисеем Гинзбургом для работников Наркомфина (Министерства финансов), есть во всех учебниках архитектуры. Но люди, поселившиеся в этом доме, отказались менять свою жизнь «под» архитектуру. Советские финансисты не стали жить так, как хотел автор проекта: обедать и отдыхать коллективно, а в «жилъячейках» только спать. Придуманные архитекторами общие пространства для отдыха нарезали на комнаты, еду приходилось готовить прямо в квартире-ячейке. Жильцы не любили эти дома.
Полюбят со временем, были уверены проектировщики. Они были убеждены, что опередили свое время. «Практическая неприемлемость этих зданий в конкретных условиях, как правило, объяснялась преждевременностью их внедрения – предполагалось, что со временем общество „дорастет“ и до тех форм жизни, которые культивировались в домах-коммунах»[230]. Но в действительности авторы тех проектов, как и большинство фантазеров, от времени отставали. Настоящие коммуны если и создавались в реальной жизни, то как попытка рабочих противостоять враждебной социальной среде. Агрессивное окружение заставляло сторонников советской власти объединяться в бытовые коммуны в годы Гражданской войны[231]. В этих сообществах архитекторы и подсмотрели идею домов-коммун, совместив их с утопическими представлениями прошлого. Но в условиях победившего социализма пролетариям, хозяевам их собственной страны, нужны были уже не оборонительные сооружения, а удобные городские жилища. О таких жилищах можно было только мечтать.
Сталинские дома могут притягивать внимание и нравиться, потому что в них много лишнего, странного, непропорционального – башен, лепнины и гигантских арок. Архитекторы этих домов были готовы поспорить с человеческим масштабом и природой, устраивая в центре Москвы просторные итальянские лоджии, созданные для жаркого климата и яркого солнца. «Мироощущение этой культуры словно бы сползает на несколько десятков градусов южнее, с 60-й широты до, по крайней мере, средиземноморских широт»[232]. Эти дома как будто говорили каждому советскому гражданину, выбравшемуся из общежития и оказавшемуся в центре города: это место для особенных людей. Инженерия – для плебеев, архитектура – для патрициев: тот, кто живет здесь, возвышается над остальными. Даже климат в этих домах не такой, как у нас: у них средиземноморское солнце, у нас – затянутое тучами небо и вечный холод.
Сталинский стиль возник, как только вождь осознал и смог донести до подчиненных новое содержание архитектуры. Теперь, когда новый социальный порядок был намечен, нужны были инструменты его удержания и укрепления. Тайная полиция, принудительный труд, общественные организации, созданные сверху, – это инструменты сдерживания и насилия. Нужна была и позитивная программа, в частности привлекательная эстетика. Отсюда и кинофильмы, и литература, и быт новой аристократии: величественные дома, увенчанные колоннами «сталинского ордера», сталинского порядка (ордер – это порядок). Это высокие дома, властно заявляющие о незыблемости советской иерархии, построены в буквальном смысле «на зависть».
Слово «ордер» в советском употреблении получило еще несколько значений. Ордер на квартиру (вместе с пропиской, конечно) – это своеобразный титул на владение собственностью в стране, где нет собственности. Это очевидное возвращение к любимой Иваном Грозным практике наделения собственностью за службу. Ордера на квартиры в новых домах с башнями и колоннами государство вручало тем, кто высоко летал, тем, кто был знаменит, и, конечно, тем, кто руководил.
Ордер – это еще и документ, санкционирующий арест. Были случаи (порядок заселения Дома на набережной из этих случаев, конечно, – самый знаменитый), когда вскоре после получения ордера на жилье следовал и ордер на арест. Власть могла дать человеку лицензию на частную жизнь за верную службу. Но власть сохраняла за собой право судить, насколько служба действительно верна. Если служба уже не считалась верной, то частной жизни больше не полагалось – только общественная, в лагере. Такой порядок, такой ордер.
У красивого, желанного, расположенного в хорошем месте жилья в России есть не только архитектурное, но и моральное измерение. Речь не о религиозных течениях или идеологиях, которые не признают собственности. И не о Руссо, который был уверен, что цивилизация с ее страстью к границам испортила человечество. Речь снова о собственности, увязанной со службой.
Осенью 1933 года Осип Мандельштам получил первое и единственное собственное жилье, квартиру в кооперативном писательском доме в Нащокинском переулке. Но оседлой жизни было отмерено ему немного: в мае 1934 года поэта арестовали в этой самой квартире. Как раз в этом случае за ордером на жилье последовал ордер на арест. Считается, что главной причиной были стихи о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны…»), но на допросах речь шла и о стихотворении, прямо связанном с квартирой в Нащокинском, – «Квартира тиха, как бумага…».
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать –
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть…
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозные баюшки-баю
Кулацкому баю пою.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель –
Такую ухлопает моль…[233]
Надежда Мандельштам вспоминает, что появление этого стихотворения вызвано одним коротким разговором с Борисом Пастернаком. Пастернак зашел взглянуть на новую квартиру Мандельштамов и, уходя, сказал: «Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи». «О. М. был в ярости… По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не служит стимулом к работе. Вокруг нас шла ожесточенная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже стали выдавать за заслуги и дачки… Слова Бориса Леонидовича попали в цель – О. М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась, – честным предателям»[234].
В чувствах поэта нет толстовского и вообще какого-либо философского неприятия собственности. Мандельштама вывело из себя напоминание о творчестве, поставленном в прямую зависимость от службы. Пастернак добродушно и, скорее всего, без всякой задней мысли говорил об устройстве быта, об удобном месте для работы. А Мандельштам услышал напоминание о том, что жилье не покупается, а выдается в лучшем случае за игру на гребенке, а в худшем – за предательство и смешение чернил и крови. «Проклятие квартире, – пишет Надежда Мандельштам, – не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали»[235].
Эта особая цена, не выражаемая в денежном эквиваленте и требуемая государством в уплату за элементарные повседневные блага, – неотъемлемая составляющая всей организации советской жизни. Глубокая бесчеловечность советской власти была не только в том, что она убивала и калечила людей физически. Она калечила морально. В программе партии такой цели записано не было, но партийное руководство, по сути, проводило политику морального унижения образованной и духовно независимой части общества. Компромисс, отказ от свободы творчества в искусстве и науке поощрялся благами, квартирами, едой, деньгами. Бескомпромиссность, творческая свобода, независимость наказывались лишениями, арестами, смертью.
Само присутствие этого чудовищного выбора в повседневной жизни заставляет взглянуть на советскую жизнь особым образом. Любое проявление независимости, каждый отказ шагать в едином строю в советское время оплачены дорогой ценой. Те, кто шел на это, – великие люди, и их нужно помнить. Дилемма о сотрудничестве или несотрудничестве с властью была по-настоящему жестокой в сталинские времена, но и в более поздние годы выбор не был легким. Менялись только масштабы риска. За игру по правилам давали призы (впрочем, без гарантий) – то самое полное «пайковое благоустройство». За игру не по правилам можно было не просто лишиться пайка, а потерять профессию и жизнь. Выбор в пользу недеяния на родине или отъезда с родины (уже в брежневские времена, когда эмиграция стала возможной) был во многих случаях благородным и трагическим выбором. Мы не узнаем имен всех тех, кто не пошел на сделки, не реализовался и никак больше не дал о себе знать, отказавшись и от компромисса, и от собственного голоса.
Выжить, состояться жизненно и творчески, не запятнав себя предательством или другой низостью, было, наверное, высшим человеческим пилотажем тех времен. Но удавалось это единицам. Так что элитные завидные дома были населены людьми, заключавшими сделки с самими собой. Можно было завидовать их благополучию, а можно было и ужаснуться, через что или через кого им пришлось перешагнуть, чтобы стать «элитой».
Ознакомительная версия.