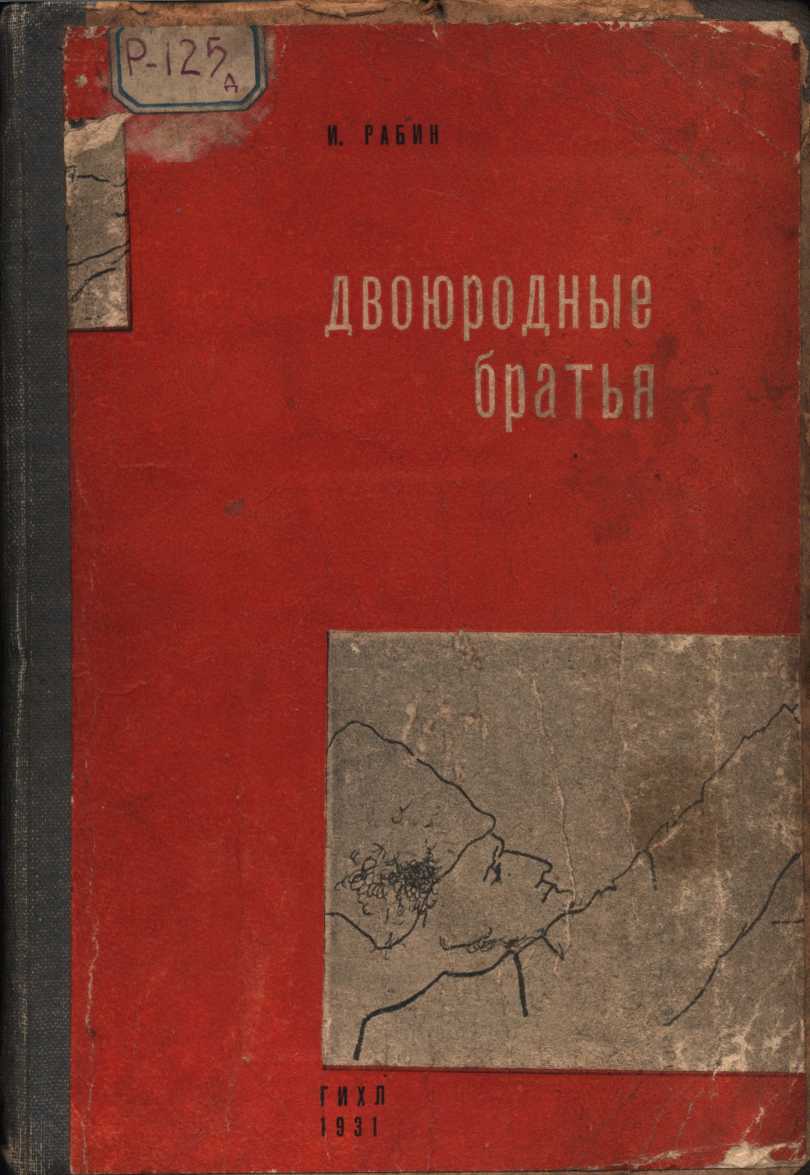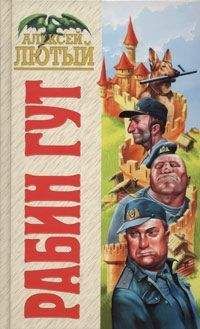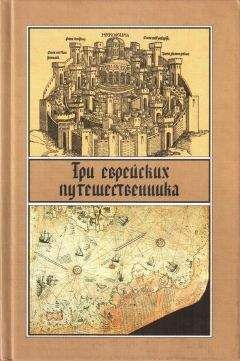досады, преследовавшей его целый день. Но, увидев множество сияющих лиц, он вспомнил, что Лия называет открытие совета праздником. Это слово его раздражало, он досадовал на Лию, но когда вошел в зал, ему стало ясно, что все находящиеся здесь тоже назовут сегодняшний вечер праздником. У него мелькнула мысль. «А Лия еще утром сказала это»!
Его окружили знакомые, все восклицали: «С праздником!»
Одно мгновение это радовала его, но вскоре вернулось ощущение досады.
Он все время сидел среди бундовской фракции с равнодушием, свойственным бессилию и сознанию, что ничем помочь нельзя.
Разве он не знает, зачем пришел Бунд в Совет? Чтобы мешать и противодействовать. По ту сторону границы ему однажды пришлось наблюдать это, и здесь повторяется то же самое. Поэтому он укрощает самого себя, сдерживает, чтобы не потерять остатки, крохи доверия к Бунду, которое выросло из долгих годов, из любви и преданности.
Он старался на думать. Он смотрел на председателя, на трибуну, снова на председателя и думал: как улыбки человеческие могут быть похожи, и до чего очки могут придать людям сходство.
В далекой, заснеженной, морозной Сибири, там, где он встретился с русскими рабочими, был один, который улыбался так же хорошо и умно, который носил очки и глаза которого смеялись из-под очков.
И Шие припоминал.
Сибиряк вытаскивает большие сани, насильно усаживает в них попа и со свистом летит вниз с горы, а потом, озябший, красный, приходит и, улыбаясь, журит:
— Вы здесь протухнете... Покатайтесь на санях...
Обедает он с большим аппетитом. Глядя на него, все начинают ощущать голод.
После еды — спать.
— Спать после обеда надо учиться у буржуазии. Включите это хотя бы в программу-максимум.
Просыпался злой, выискивал на ком бы излить злобу, и созывал всех на дискуссию.
Спорил зло, взволнованно и колко. Братва знала это и нарочно заводила с ним споры. Иногда он вдруг улыбался:
— Вы думаете, я не знаю, что вы это нарочно, я знаю и поэтому так ругаюсь. Привычка у меня ссориться после сна. Отец мой после сна мать колотил.
Однажды Шие попал на такую дискуссию. И получил такую встрепку, что у него потемнело в глазах. Ему казалось, что противник поколотит его. Но тот внезапно рассмеялся.
— Не пугайся. Сам ты правильный парень, но о твоем Бунде я сказал тебе правду, благодари!..
Вечером на стол поставили большой медный самовар, покрывшийся от старости зеленоватыми пятнами.
Шие был тогда ещё доверчив и учился опыту у того, чьи глаза улыбчато светились за стеклами очков. Тот знал людей, умел прощупать ложь, был уравновешен, ни в чем не переходил границ, не впадал в отчаяние, а главное — обладал еще чем-то таким, что давало ему возможность найти каждой вещи соответствующее верное и свое название. И его, Шию, человек этот с искрящейся улыбкой тормошил, как мешок с мукой. Опровергая многое, он толкал Шию на путь самостоятельного мышления, учил его не верить другим на слово. Познакомил его с именем Ленина и вселил в него недоверие к Бунду.
Сейчас Шие не может понять, почему его так волнует сходство того сибиряка с председателем.
В избранном президиуме сидели представители всех партий. Коммунисты убедились, что они имеют большинство на один голос. Это удивило их и обрадовало, они были довольны, что не переизбрали председателя. Он до тех пор голосовал «за» и «против», пока не перессорил между собою фракции, потом мирил их, снова рассорил, а в итоге в президиуме оказалось большинство коммунистов.
И как раз в тот момент, когда избрали президиум, председатель показался Шие особенно знакомым и похожим на того, разве у того не было морщин да седых волос, и звали его «Здешний», а председателя зовут товарищ Тутошний.
* * *
Была поздняя морозная ночь. В городском зале ощущалась усталость, ораторы говорили медленнее и тише, ждали окончания. Внезапно тишина и усталость рассеялись. Стало вновь шумно.
Незадолго до окончания заседания председатель известил:
— Приветствия...
— Первое приветствие Красной армии, с каждым днем приближающейся к городу.— Не успел еще председатель закончить, как Циммерман мелкими шажками, стуча, побежал по зале, взобрался на трибуну. Прежде, нежели получил слово, он при одобрительных криках своей фракции прервал председателя:
— Никакой армии нам не нужно!..
— Долой!
— Нам не нужно!..
Так как Бунд молчал, так как бундовская фракция не прерывала его, председатель предоставил первое слово Бунду. Он надеялся, что Бунд выручит. Представителем Бунда был член президиума Совета — Илья. Свое предложение он зачитал по бумажке, поднесенной ему бундовской фракцией.
Это предложение ошеломило председателя.
Оно гласило:
«Армия, которая называется Красной, а на самом деле состоит из погромщиков, контрреволюционеров и предателей, не нужна нашему городу. Такова воля Совета рабочих и крестьян. Долой позорную армию!..»
Все затихли, стыдясь поднять глаза. Председатель стоял сутулый, лица его не было видно. Видна была только голова, седая копна волос. Молчание длилось довольно долго, пока в тишину не врезался голос, точно блестящим топором разрубивший тишину, и казалось, что тишина застонала от боли.
— Кто разрешил говорить от имени Бунда? Кто?— кричавший не ждал ответа.
Он вскочил на трибуну и стукнул по столу, от его стука со стола скатился звонок и с приглушенным звоном покатился по полу.
— Мы — за Красную армию!
Больше он ничего не мог сказать, точно слова застряли в горле, и он не мог их вытолкнуть. Председатель взволнованный, дрожащей рукой поднес ему стакан воды. Вода расплескалась. Оратор хотел продолжать, но председатель опустил ему руку на плечо и сказал:
— Незачем... Все разбежались по фракциям... А ты, Шие, не узнаешь меня?.. Я... Здешний или Тутошний... Повсюду я здешний, повсюду одинаковый, а ты?..
Ранняя весна давала себя чувствовать мягкостью, спокойствием ветерка, прозрачным кротким, свежим дыханием улицы. Но никто не замечал этого, никого не успокаивала легкость, каждый шаг отдавал тревогой, тревога была повсюду, где ступала человеческая нога, где живое дыхание искало жизни: поляки... поляки... Но где и как — никто не знал.
Улицы затихли, стало мертво...
Раннюю весну никто не встречал. Никто не ощутил ее появления. Взволнованным сердцебиением, как ребенок, понеслась она по городу, и, как одинокий ребенок, испугалась огромной пустоты лихорадочных улиц.
Но вдруг послышалась стрельба. В воздухе засвистели вначале одинокие пули, потом зачастила перестрелка.
Утром люди все еще не замечали весны, утром в посиневших, побледневших лицах