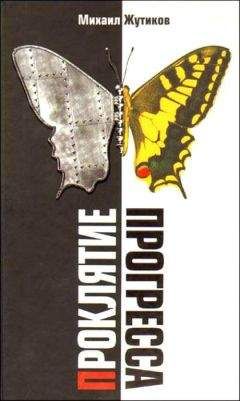Началась столетняя классовая война, навязанная русскому народу, в результате которой Россия до конца исполнила свою историческую миссию (пожертвовав собой): она ужаснула мир. И европейский мир внял предупреждению – принялся разрешать социальные проблемы. Не разрешены они посегодня в одной России…
М.Ю.Лермонтов не забыт, напротив, слава его растет. Продолжается отчасти его дело – противостояние официозу великой национальной поэзии с постепенным ослаблением ее практического влияния (и неизжитой-таки тягой к бурям). На Есенине великая русская поэзия оборвалась со звуком перетянутой струны, – лермонтовским отзвуком октавой выше. Наступало «великое безмолвие рубки» (И.Бабель). (Разумеется, речь идет о поэзии сколько-нибудь в русле национальной традиции. Попытки создания новой культуры на расчищенном месте не могли не провалиться и провалились: культура не создается ни в 20, ни в 220 лет. Имена на обломках недо-культуры, не звучащие для сердца, остались вдоль зарастающей дороги в тупик.)
Продолжается его дело и внутри ремесла литературы. Непосредственное влияние «Героя» сильнее проявляется в «евклидовой» прозе, но все три ее течения наполняются его требовательностью к правде; это составит ее славу. (В «Очарованном страннике» Н.Лескова – русской «1001-й ночи» – в эпизоде повторен печоринский тип с прямой характеристикой: «… мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи – иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем».)
Отметим к слову, что быть может, очень многим людям на свете на самом деле не важны ни Лермонтов, ни вообще литература, но вот особенность: не так уж мало сегодня читателей – и дельных людей – не любящих Л.Н.Толстого за (действительно заметную) фальшь, за ленино-цитатную «глыбость» и «матерость» (в коей он не повинен); не любящих Ф.М.Достоевского за мрак и вывихнутость, сочиненность иных его выдумок, за неловкости и натяжки – но что-то не встречалось тех, кто отзывался бы дурно о Михаиле Лермонтове. Кажется, за единичными исключениями – все того же великого симметриста, накалывателя бабочек В.Набокова, одуревшего от тоски в своей демократической Америке, да мистика Владимира Соловьева, не кропали о нем и никакой особенной глупости….
Но в политической биографии России дело разрушения (точнее, спровоцированного саморазрушения) остановить не удается. Великое Незнание Действительного человека, а точнее (что много хуже) его иллюзорное знание, застрявшее в головах теоретиков, устремляет многие тысячи энтузиастов в «народ», в «террор», в «пролетариат». Раннее понимание им действительных мотивов поступков людей – результат его дерзких провокаций – пропадает втуне. Только много позднее этот уровень понимания появится с притчевой ясностью у Н.Лескова, затем у А.Чехова. Наши же крупнейшие классики – Тургенев, Достоевский, Толстой – при всей «психологии» озабочены почти всецело идейной проблематикой, нагружая ею героев: герои, а с ними авторы только-только управляются с ней. За идеологией и следит с полным напряжением читатель.
За недостатком практического дела роль литературы в России велика. За незнанием, почти полным, реальности, интеллигент-читатель черпает убеждения из мира романических типов и коллизий, проживая подчас и до скончания дней на воображаемой планете. Обсуждая на разные лады выдуманных персонажей и подводя их под теории Шеллинга и Ницше, изучая народ по «Хорю и Калинычу», «помещиков», «мещан», «купцов» – по тому же Тургеневу, Гончарову, Островскому, Писемскому, «заводчиков» – по Мамину-Сибиряку, «рабочих» – по Горькому, читатель бывает до испуга изумлен тем, что в результате торжества «справедливости и демократии» к власти приходят убийцы, демократу же теоретику бьющие, часто до смерти, по голове. «Марксисты»-Бердяевы, систематически приводящие к власти убийц, страдают первые, впору бы их пожалеть; только досадно, что «передовая интеллигенция» на деле оказывается первый враг своего народа – именно по полному его незнанию: через литературу, ее «художественные открытия» узнаются десятки, много, сотня-другая типов, в реальности их миллионы, притом меняющиеся от времени, от освещения! Увы, крестьяне не состоят из Антонов-Горемык – как негры не состоят из дяди Тома с его хижиной…
Ты жалеешь холопа, ты искушаешь его терпение; ты желаешь ему добра! – а сумеешь ли сотворить то добро? не поучиться ли прежде на ком поближе? ведь он тебе неведом, ты не знаешь о нем ничего; ты теоретически знаешь о нем, что он хорош, потому что забит. Отчего же непременно хорош? А ну, как хороша в нем одна забитость – и не вздернет ли он первым освободителя на первом суку? Не выйдет ли из человечка забитого вскорости Яши Свердлова или Коли Ежова или еще чего почище? Но попытки сведущего Писемского развеять университетскую потьму представлений о «мужичке», свидетельствуя о гибели в его среде всего честного и путного, встречены воем демократов. Николай Успенский прямо объявлен клеветником, Николай Лесков после романа «Некуда» (1864) отлучен от ведущих журналов.
М.Ю.Лермонтов изучал действительного человека, даже своей злосчастной дуэлью он продолжал провоцировать его низость (доказано, по каналу пули, что он держал пистолет до самого конца дулом кверху и даже объявил, что не будет стрелять по противнику, тем унижая его более!) – ставя его перед лютым выбором, накапливая опыт прямого, истинного знания: из книжек узнаются разве Чайльд-Гарольды да Веры Павловны… Но упорен, настырен в своем нежелании правды разнесчастный образованный русский интеллигент!
7
Между тем изучение разлюбезной человечьей «личности» – только часть его трудов и даже, быть может, не первейшая из заслуг. У него складывалось, вызревало уже внутреннее знание России:
Страна рабов, страна господ!
Как это понимать? Где тут новое знание? Да это не клевета ли?
Возможно, ответ прояснится, если осмелимся предположить в этих строках предчувствие того, что сама суть нашего народа как целого – в поведении «женского типа», в раболепии в том числе – но и в своенравии, в несоблюдении «правил»; в доверчивости и энтузиазме, в уклончивости и терпении; в выносливости и самоотверженности, в вечных думах не об одном себе, в разочаровании и отчаянии! Вероятно, такую фантазию осмеют аналитики-«экономисты», для которых, что воробьи, однолики Гонконг и Бердичев, но нет ли правды в том, что народная Россия в массе (до поры) – это отчасти чеховская Душечка, с ее верой словам, а не делам? – она пребудет такой, конечно, в своем ровном, обыденном течении жизни – напрасны надежды на «самобытную деятельность народных масс» (Н.Добролюбов, 1857), она зачарованно смотрит на лидера: что он? Она жаждет его решительности, ясности, ей важно будущее, для нее нет прошлого! Она жаждет определенности, она будет ему верна! Она равнодушна к истории, к замороженному конституционному слову, ей потребно словечко живое!
Этот тип доверчив, опыт обмана не очерствляет до поры его сердца, оттого подлость всякий раз успевает, снова и снова «проходит»: довлеет всякий раз надежда – это она окрашивает вождя, оценивая его бог знает по каким приметам – обаянию, доступности, простоте или «эрудиции» – хоть бы он на глазах проваливал одно за другим государственное дело; это огорчительно, это скверно, но будет забыто, прощено за дарованный пустяк, за доброе слово. Важна форма, а не суть, важно как, а не что сказано, – хоть простота вполне может оказаться худшей воровства (обаятельней же, убедительнее всех, как известно, аферисты: это их профессия). Это не означает, конечно, что каждый из нас таков, очень многие видят реальность как она есть и судят «по-мужски»… молчком, про себя. «Толпа» (по любимой его терминологии) – она же и рабочая лошадь – аполитична, анархична, покорна и своенравна вместе – ей важно определиться в вожде! Слабое же правление враз ослабляет и государство.
Но берегись: она чует правду, и внушаемость ее до поры. Россия – таки не Душечка. Доверчивость и глупость далеко не одно! Разочарование ее безвозвратно: перегорело чувство – и ты больше не существуешь для нее. «Разлюбила, и стал ей чужой» (И.Бунин). Она оставит тебя в трудное время и в любом положении, вини одного себя: ты не понял ее нужд (ей было нужно немногое, быть может, словечко понимания, да защита), не оценил ее преданности, ты предал ее! Ты безнадежен – ты откочевал в категорию ничтожеств. Ведь и разгул, и разбой, и бунт здесь тоже не европейский!
Вот что учуял и блистательно использовал великий полководец Владимир Ульянов – и вот что, почти одно, вытянуло его из зубополочного прозябания в их вечном Цюрихе в вожди крупнейшей нации, – несмотря на абстрактность и чуждость социалистической затеи, вопреки «аналитическим», «экономическим» и иным предсказаниям скорого краха большевиков. Фанатик цели, подхватывающий за собой ветер отребья, всполохнувшегося от внезапного шанса урвать от перемен – бесшабашных ловкачей, тугодумов-теоретиков с бледно-сияющим взором и одноплеменников с текущей из пасти слюной, балбесов, верящих в счастье без труда, в «освобождение», за которое платят только худшей кабалой, самое умное, что есть в России – ее воров и самое тупое, что в ней есть – ее интеллигенцию, – этот внук Израиля Бланка (принявшего в православии имя Александра) догадался до самой сути русской лениво-доверчивой, внушаемой души, чтобы бросить ее в огонь самоистребления. И она ринулась в огонь.