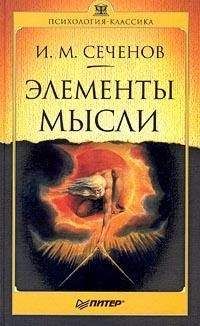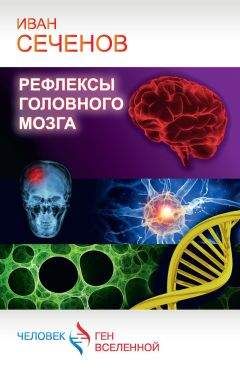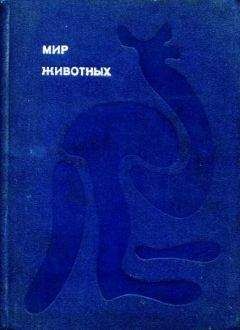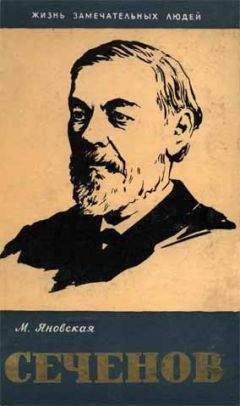сторону, а не наоборот) и пр. И все эти характеры относятся к произвольным движениям? Не ясно ли после этого, что всякое произвольное движение есть еоipso движение, заученное под влиянием условий, создаваемых жизнью. В такой общей форме последний вывод может быть, впрочем, выведен и гораздо проще: у ребенка, при его рождении на свет, кроме абсолютно непроизвольных движений (сосание, глотание, дыхание, кашель, чихание и пр.), нет никаких правильно комбинированных движений — все они заучиваются в детстве мало-помалу (смотрение, ходьба, речь, схватывание всею рукою или отдельными пальцами, употребление руки как рычага и пр.), и именно эти-то движения и становятся по преимуществу произвольными, хотя взрослый человек имеет возможность производить произвольно и невольные акты сосания, глотания, дыхания, кашля и пр.
С не меньшею яркостью выступает и то обстоятельство, что воля властна далеко не в одинаковой степени над разными формами произвольных движений. Иногда она является как бы совсем полновластной; в других случаях произвольное движение возможно, или по крайней мере значительно облегчается, только в присутствии какого-нибудь привычного внешнего условия, при котором движение происходит нормально; и, наконец, есть случаи, где воля властна лишь над самою поверхностью явления. Примерами первого рода могут служить акты сгибания и разгибания туловища, рук и ног; примерами второго — произвольное сведение зрительных осей без и при посредстве реального образа, также произвольное глотание, возможное только до тех пор, пока есть что проглотить, именно слюну во рту и пр. Наконец, типическим примером последнего рода может служить отношение воли к дыхательным движениям: мы можем, как всякий знает, остановить их в любой момент и видоизменять как со стороны глубины, так и ритма; но все это мы можем делать лишь на очень короткое время, затем прерванные или видоизмененные дыхательные движения восстановляются в нормальной форме наперекор всяким волевым усилиям с нашей стороны. Между этими-то крайностями и лежат пределы произвольности наших движений. Во всех без исключения случаях форма
влияния воли остается, однако, одинакова — она может вызывать, прекращать, усиливать и ослаблять движение, — и только степень ее власти, по-видимому, крайне различна. Как же объяснить себе подобные разницы? На это физиология в силах дать самый определенный ответ. Все искусственные движения, как заученные или представляющие род искусственного воспроизведения натуральных актов (например, произвольное глотание и произвольное дыхание), приобретают от частоты повторения характер привычных движений, и через это на них отражаются все условия привычки. Так, хотя сгибание пальцев рук и развивается под влиянием реального условия схватывания более и более мелких предметов, но акт очень часто повторяется в жизни и без существования схватываемого объекта, оттого и пустое, так сказать, сгибание пальца делается мало-помалу привычным. Смотреть же и глотать мы привыкли исключительно под условием существования реального субстрата для смотрения и глотания, все равно как мы привыкли ходить под влиянием чувства опоры под собою; значит, когда этих реальных руководителей нет, то и процесс совершается или с трудом, или не совершается вовсе. Что же касается до дыхательных движений, то здесь мы имеем случай рокового происхождения явлений, которое может видоизменяться под влиянием воли лишь незначительно, именно потому, что оно в основе роковое.
Этою-то привычностью произвольных движений и объясняется для физиолога то обстоятельство, что внешние импульсы к ним становятся тем более неуловимы, чем движения привычнее. Эта же неуловимость внешних толчков к движению и составляет, как всякий знает, главный внешний характер произвольных движений. После этого переверните предыдущую мысль, и из нее непоколебимо выйдет, что движения пальцев руки, как наиболее привычные, должны казаться нам наиболее произвольными.
Нужно, впрочем, заметить, что воля относится поверхностным образом не к одним только дыхательным движениям, где дело объясняется тем, что основы явления роковые; такое же отношение существует, строго говоря, для всех вообще случаев сложных заученных движений, хотя бы последние и
не были вовсе связаны с такими жизненными вопросами тела, как дыхание. Возьмем, например, ходьбу. Раз она заучена (а заучается она в детстве!), воля властна в каждом отдельном случае вызвать ее, останавливать на любой фазе, ускорять и замедлять, но в детали механики она не вмешивается, и физиологи справедливо говорят, что именно этому-то обстоятельству ходьба и обязана своей машинальной правильностью. В самом деле, стоит только думать во время ходьбы о каждом моменте движения, и ходьба становится несвободной, натянутой. Та же история повторяется, как известно, на всех движениях, заучаемых даже в зрелом возрасте (ручная ремесленная техника, игра на музыкальных инструментах и пр.); она повторяется, наконец, на самой речи. Ввиду особенной важности последней в психической жизни человека я принужден здесь остановиться, прежде чем формулирую общий вывод из только что развитых соображений.
С целью выяснения вопроса я стану проводить параллель между речью и ходьбой с различных точек зрения. Известно, что речь всякого человека представляет какую-нибудь звуковую характерность: один растягивает слова, другой говорит слишком быстро, третий шепелявит, картавит, говорит вместо ш — с и пр. Когда эти свойства сделались от долгого упражнения привычными, то воля уже не властна изменять их в речи, хотя человек и остается способным произносить отдельно р или ш правильным образом. Совершенно то же замечаем мы и на ходьбе: походка может быть тяжелая, медленная и быстрая, один ходит плавно, другой подскакивает, третий семенит ногами и пр. И здесь заставьте человека сделать над собой усилие в течение двух-трех шагов, оказывается, что он может избежать своих привычных пороков в ходьбе, но на короткое лишь время, потому что вмешательство воли связывает свободу движения и превращает в положительный труд такую вещь, которая, будучи предоставлена самой себе, идет как по маслу. Известно далее, что в правильную речь я могу вставлять по произволу какие угодно звуки (говорить, например, по херам) или извращать слоги; аналогичное можно сделать и с походкой, например, подпрыгивать или приседать в определенный такт при правильной ходьбе, встряхивать
в известный период шага ногою, ходить задом и пр. Ко всем таким вещам можно путем долгого упражнения привыкнуть до такой степени, что трудно уже будет говорить и ходить правильно, но пока привычки не сделано, подобное вмешательство воли прекращается обыкновенно очень быстро. Стало быть, с чисто внешней стороны степень подчиненности воле речи и ходьбы в самом деле одинакова. Но посмотрим, идет ли такая параллельность между обоими процессами и вглубь от поверхности явлений. За этой поверхностью во всяком заученном движении лежит как первая инстанция та первая связь движения с регулирующим его чувствованием, которая хотя и ускользает от обыденного сознания, но которую можно доказать самым очевидным образом. Известно, что человек может заучить наизусть по слуху длинные стихи на совершенно непонятном ему языке, все равно, как он заучивает песню без слов. Когда человек декламирует эти стихи, реально он повторяет в 1001-й раз то, что делал прежде; в сознании при этом, рядом с движением, несколько опережая его, льется звуковой след от стихов, сохраненный в памяти. Пока след этот без прорех, речь льется плавно, но чуть в звуковом следе встретился недочет в звуках (забыто слово), происходит перерыв и в движении. Властна ли воля над этими забытыми звуками? — прямо, очевидно, нет: забытое мы вспоминаем всегда окольными путями. Теперь посмотрим на ходьбу. Хожу я, например, в эту минуту. Это значит, я повторяю в 1 000 001-й раз то, что делал прежде. При этом рядом с ходьбой у меня тянется в сознании тоже определенная песня, но выстроенная не из звуков, а из немых для слуха, но ясных для сознания кожно-мышечных ощущений[ 24 ]. Пока в этой песне нет недочетов (чувственных), движение идет правильно, но вот нога, размахнувшаяся вперед, вместо того чтобы ступить в данное мгновение на пол, попадает в неглубокую яму — недочет в чувствовании — и человек спотыкается. Неужели аналогия не полная? Разница только в том, что если человек при ходьбе видит ту яму, в которую ему приходится ступить, или то возвышение, через которое нужно перешагнуть, то он способен приноровить ходьбу и к этим случайностям. Дело здесь, однако, в том, что ходьба заучивается и на такие частные случаи, но уже под контролем глаза (а у слепых посредством осязания, при помощи палки, ощупывающей землю), тогда как в заучивании песни или стихов глаза ни при чем, — значит, выручать из беды слух не могут. Но ведь в речи и за пределами только что разобранной инстанции есть еще нечто — это связь ее с мыслительными процессами. Когда человек рассказывает то, что он видел или вообще что у него отложено в памяти в форме мыслей, в голове его должны идти параллельно голосовым движениям мыслительные процессы. Этот случай, по-видимому, совершенно отличен от случая декламации стихов на незнакомом языке. И да, и нет. Если человек передает в первый раз на словах только что пережитое им зрительное впечатление и говорит в том самом порядке, в каком отдельные члены виденной им картины ложились на его душу, это значит, что параллельно словам течет репродуцированное зрительное впечатление в форме образов. Но когда человек стал рассказывать о том же самом, уже подумав о виденном, — а думать, как известно, можно и словами, — то возможно, что при рассказе (о виденном!) в сознании репродуцируется словесная фотография образа, а не самый образ, И, конечно, в последнем случае процесс будет тот же, что и при рецитировании непонятных стихов, если отбросить в сторону те побочные страстные осложнения, которыми характеризуется рассказ о прочувствованном, и тот порядок рассказа, который управляется ходом мыслей. Этот-то ход мыслей и есть новый элемент против случая декламации заученных стихов, но над ним воля, как всякий знает, не имеет уже абсолютно никакой власти. Если мы обратимся теперь к ходьбе, то в ней не видим ничего подобного последнему элементу.