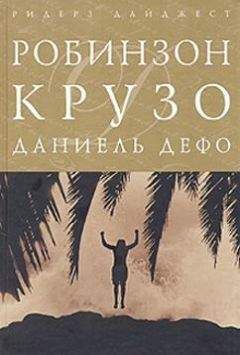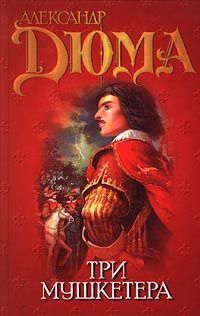На Репетилова, однако, этот пустяковый вопрос произвел почему-то сильнейшее впечатление. Сняв с головы упомянутый головной убор, он быстро спрятал его под пелерину и таинственно приложил палец к губам:
— Тсс!.. Этак вдруг… Ведь это, братец, тайна!
Хоть режь, ни слова не скажу! Я клятву дал молчать.
А впрочем, для тебя готов я исповедь начать.
Ты слышал что-нибудь? Иль угадал случайно?
— Кое-что мне известно, — уклончиво ответил Холмс. — Но, разумеется, не все. Впрочем, мне вы вполне можете довериться.
Наклонившись к самому уху Холмса и таинственно понизив голос, Репетилов проговорил:
— Ах, братец, не по мне секретов этих груз.
Уж так и быть, скажу: я прямо с заседанья.
У нас есть общество, и тайные собранья
До четвергам. Секретнейший союз!
— Ни слова более! — оборвал его Холмс. — Тайна эта принадлежит не вам, и мне ее знать ни к чему. Меня интересует только одно: шляпа… Шляпа á la Боливар… Какое она имеет ко всему этому отношение?
— Да самое прямое. Шляпа — знак!
Вот — я! Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак!
А в боливарах этих все мы схожи…
— Кто все?
— Цвет нации! Сок умной молодежи!
— Вот уж никогда не поверю, — вмешался Уотсон, — чтобы такой пустяковый предмет, как шляпа, мог иметь такое значение.
Репетилов мгновенно обернулся к новому собеседнику и, положив руку ему на плечо, заговорил с еще большей страстью и даже с пафосом:
— Поверь, mon cher, сей боливар есть знак!
Он знак того, что все мы сердцем чисты.
Мы — санкюлоты! Мы — либералисты!
Атласный сей цилиндр — фригийский наш колпак!
— Благодарю вас, мсье Репетилов, — церемонно поклонился Холмс. — Своими разъяснениями вы оказали нам огромную услугу.
— Холмс, я вас просто не узнаю! — воскликнул Уотсон, едва только они очутились на Бейкер-стрит. — Неужели вы придаете хоть какое-нибудь значение болтовне этого ничтожного, пустого малого? Неужели вы не знаете, кто такой Репетилов?
— Я прекрасно знаю, кто такой Репетилов, — усмехнулся Холмс. — Он действительно пустой малый и болтун, каких свет не видел. Но именно вследствие этих самых своих качеств он сообщил нам сейчас множество ценнейших сведений.
— Да разве можно верить хоть одному слову этого человека.
— К информации, полученной от Репетилова, разумеется, следует отнестись с осторожностью. Но многое из того, что он сказал, подтверждается сведениями, почерпнутыми мною из других, более солидных источников. Симон Боливар — это имя видного деятеля национально-освободительного движения в Южной Америке. Шляпа á la Боливар в 20-х годах прошлого века в России была модной в той среде, которая следила за политическими событиями, сочувствовала борьбе за независимость маленького народа…
— Значит, Репетилов не соврал? — с изумлением воскликнул Уотсон. — Значит, это правда, что такие шляпы носил, как он выразился, «сок умной молодежи»?
— Ничуть не соврал. Сейчас я вам покажу, что пишет по этому поводу один из дотошнейших комментаторов пушкинского «Евгения Онегина».
Холмс достал из шкафа книгу, раскрыл ее на нужном месте и прочел:
— «Когда молодые либералы 20-х годов в интимных записочках клялись „во имя Боливара, и Вашингтона, и Лафайета“, когда Полевой и его приятель Полторацкий в издававшейся ими рукописной газете помещали эпиграф: „Боливар — великий человек“, то на этом фоне, а также на фоне газетных и журнальных заметок, восхвалявших Боливара и „старания его правительства о благоденствии жителей“, шляпа á la Боливар означала не просто головной убор, — она указывала на определенные общественные настроения ее владельца, получала в известном смысле тот же характер, какой придавали тогдашние либералисты фригийскому колпаку патриотов французской революции».
— A-а, так вот откуда взялся этот фригийский колпак в устах Репетилова. И это словечно — «либералисты»! — усмехнулся Уотсон. — Я сразу почувствовал, что это не из Грибоедова. Стало быть, это был не грибоедовский Репетилов, а ваше изделие?
— Как сказать, — возразил Холмс. — Про секретнейший союз и тайные собранья по четвергам — это как раз из Грибоедова. И так поразившее вас выражение «сок умной молодежи» тоже не мое, а грибоедовское.
— И все-таки я не пойму, зачем понадобилось вам столь важные сведения вкладывать в уста такого бездельника, как Репетилов. Неужели нельзя было выбрать кого-нибудь посолиднее?
— Мне надо было как можно нагляднее продемонстрировать вам, до какой степени распространена была эта идея. Если уж о значении шляпы á la Боливар знал даже Репетилов, стало быть, сокровенный смысл этой моды уже ни для кого не был тайной, — объяснил Холмс.
— Ах, у вас на все найдется ответ! Однако в справедливости вашей, так сказать, центральной идеи вы все-таки меня не убедили.
— Что вы имеете в виду?
— Вы все время стараетесь уверить меня, что Пушкин относился к своему Онегину как к серьезному человеку. Он прямо чуть ли не декабристом у вас выходит.
— По-моему, я не ограничивался одними только уверениями, — сухо возразил Холмс. — Это, как вы знаете, не мой стиль. Я сторонник строгих доказательств. Точных, неопровержимых улик.
— Ну да, — сказал Уотсон. — И вот теперь эта шляпа, этот самый Боливар. Еще одна улика…
— Помимо улик есть еще и логика, — еще более сухо напомнил Холмс.
— Ах, друг мой! — вздохнул Уотсон. — Поверьте мне, что и логика, даже ваша железная логика, — это тоже еще далеко не все!
— Вы считаете, что на свете есть сила более мощная, чем логика?
— Да! — пылко воскликнул Уотсон. — Это сила непосредственного впечатления! Вот после всех наших разговоров я взял в руки пушкинского «Онегина», перечитал заново первые строфы…
— И что же? — ледяным тоном спросил Холмс.
— И все ваши высокоумные аргументы развеялись, как дым.
— Ого!
— Да, да, представьте себе! Я читаю и вижу: не принимает Пушкин своего Онегина всерьез. Вот что хотите со мною делайте! Пушкин над ним постоянно иронизирует, посмеивается…
— Где же это, интересно знать, он над Онегиным посмеивается?
— Да везде!
Уотсон взял в руки изрядно уже зачитанный томик Пушкина и быстро стал его листать.
— Вот! — радостно воскликнул он. — Возьмите хотя бы вот это место, где Пушкин рисует образование, которое получил его герой.
Водрузив на нос очки, Уотсон, торжествуя, прочел:
«Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей!»
Захлопнув книгу, он презрительно фыркнул:
— И это серьезный человек? А?.. Историю изучать у него, видите ли, нет охоты. А всякие затасканные анекдоты рассказывать, так на это и время находится и желание.
— Я не исключаю, конечно, — задумчиво сказал Холмс, — что среди тех анекдотов, которые хранил в своей памяти Онегин, были разные пустяковые истории. Что ни говори, а речь идет о том периоде этого пушкинского героя, когда он был всего-навсего «молодой повеса», как называет его сам Пушкин. И все-таки…
— Что — все-таки? — раздраженно прервал друга Уотсон.
— И все-таки, — невозмутимо продолжал Холмс, — прежде чем сделать такой ответственный вывод, какой решились сделать вы, не мешало бы встретиться с самим Онегиным да попросить его рассказать нам хоть несколько из его любимых анекдотов.
— А что? Это, пожалуй, идея! — сразу же оживился Уотсон.
Предложение Холмса явно пришлось ему по душе.
— Господин Онегин! — решительно начал Холмс, едва только они с Уотсоном переступили порог кабинета «философа в осьмнадцать лет». — У меня к вам огромная просьба. Сделайте милость, расскажите мне и моему другу два-три анекдота из тех, что в таком избытке хранятся в вашей памяти.
Онегин не стал ломаться. Благодушно пожав плечами, он сказал:
— Что ж, я привык на просьбы эти
Всегда согласьем отвечать.
Не зря меня так любят в свете…
С чего ж, однако, нам начать?
Я нынче, кажется, в ударе.
Начну рассказ о государе,
О юноше несчастном том…
Холмс сразу догадался:
— Об Иоанне?
— Да, Шестом.
Том, что давно почиет в бозе.
Предмет сей, вижу, вам знаком.
Но о событии таком
Рассказывать уместней в прозе.
— Вы правы, — согласился Холмс. — Да и жанр, в котором я прошу вас проявить ваше искусство рассказчика, тоже требует не стихотворной, а прозаической формы.
— Я рад, что вы это понимаете, — сказал Онегин, легко и свободно переходя со стихов на прозу. — Итак, начну… Когда Иван Антонович, будущий государь, которому так и не суждено было царствовать, родился на свет, императрица Анна Иоанновна послала к Эйлеру приказание составить гороскоп новорожденному. Эйлер сначала отказывался, но принужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком, и, как добросовестные немцы, они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих математиков — и они послали императрице гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер, однако ж, сохранил первый и показывал его графу Разумовскому, когда судьба несчастного Иоанна VI свершилась.