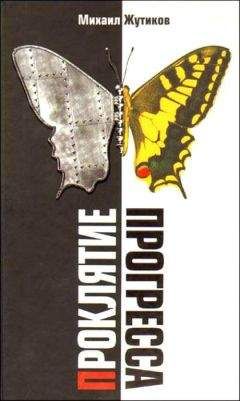(Здесь, может быть, нелишне повторно отметить разделение идеи, овладевшей нашим героем, и его личности – его души, его самого: команда большевиков сама по себе не сомневалась в правомерности своего насилия и действовала решительно и в полном соответствии со своей логикой, народ же изначально и сознательно был обманут, одурачен; точно так идея Раскольникова вела его к катастрофе, будучи сама по себе решительно, устойчиво «верной», т. е. логически последовательной.)
«Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкой дрожью, и по всему ее лицу побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором: губы у нее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей…»
Но и то, конечно, необходимо сказать, что довело до катастрофы и управление страной замечательно безмозглое. Правда революции, способствовавшая ее «успеху», – в ее совпадении с яростью народной. Брошенный в лакейски-«союзнических» услугах Европе спасать одну гадину от другой, заливая эту чуждую, враждебную Европу русской кровью, народ был внутренне вправе осатанеть – а сослепу и выбрать что попало как выход. Не будь так озлоблен, унижен Родион Раскольников, не будь он так оскорблен в своей гордости, имей он хоть малую перспективу сколько-нибудь здравую, не получи он от матери известия о новом, еще худшем унижении, не взяла бы его и самая «идея». Теперь же торжествует в нем (и в народе нашем) бредовая (европейская, между прочим) иллюзия.
«– Н-ничего не допускается! – с жаром перебил Разумихин, – не вру!.. Я тебе книжки ихние покажу: все у них потому, что «среда заела», – и ничего больше! […] Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления изчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество! […] Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! […] И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели! Фаланстера-то готова, да натура у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет! […] С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести!»
Дальнейшее развитие страны – последовавшее за исполненным решением, исполненным «в интересах» «беднейшего крестьянства», то бишь в видах «благородных дел»: непрерывная в сущности Гражданская война (вплоть до измены генерала Власова и сегодняшних дней), мятежи, коллективизация с ее гибелью многих миллионов трудящихся (хлеборобов) в результате репрессий против крестьян и последовавшего голода – ничего тут не сочиняя, не подтягивая специально, помня, что жизнь везде и всюду спасительно брала и берет свое – все-таки, в смысле самоощущения народа, который как будто убил самого себя, – с потрясением всех его душевных сил, с вечным чувством некоей ошибки или неудачи, нарастающим страхом и желанием как-нибудь отвязаться от совершенного дела («за Советы без коммунистов!») – даже и с проблесками коротких и несбывающихся надежд (вроде «Первых радостей» К.Федина, оказавшихся и последними), ожесточение и упорство в вынужденной самозащите, невозможность вполне отвлечься, занявшись чем-то живым, и все возрастающее напряжение какой-то бесчеловечности, антихристианства уже и воинствующего, вечной «борьбы» (вплоть до «битв за урожай» вместо молитвы) и неизбывной подозрительности – не в отношении событийном, но в смысле, повторим, душевного состояния – если взять должный временной и пространственный масштаб – буквально ложится на канву романа. Злодейство оказалось бесцельным, взятые у старухи побрякушки не пошли впрок, кровь пролита не просто зря, но в ущерб исполнителю – потому что его душа оказалась не приемлющей совершенного над собой зла! Окружающие ощущаются Раскольниковым как враги, он бежит от своих близких, ненавидит единственного дельного товарища Разумихина, собственную мать и весь свет… Сделанное отъединяет его от мира…
Но и событийно нельзя отделаться от ощущения странного…
Быть может, если говорить всерьез, мы исключили бы из нашей аналогии, к примеру, Отечественную войну 1941–1945 гг., с ее поневоле объединением народной силы на отпор внешнему врагу… если бы не видеть уже мистического совпадения даже и этого внешнего покушения на Россию с борьбой Раскольников – Лужин, Раскольников – Свидригайлов, с новым, поневоле, напряжением сил героя и мобилизацией, поневоле, его личности для отпора врагу внешнему по отношению к кровному его достоянию, его семье. В самом деле, претензия Лужина на Авдотью Романовну, Дунечку, жертвующую «всем для Роди»; и куда более изощренная, вяжущая и реально опасная тактика Свидригайлова – то есть покушение (в нашей аналогии) на цельность и здоровье, на саму жизнь нации, на святое, на источник и цель, на родину – попадают на сходный период романа, когда его несчастный герой едва начинает приходить в себя и выстраивать свое поведение в новых обстоятельствах и новом самоощущении. Персоны эти действовали и ранее как враги его (как Европа – враг России заклятый, закоренелый), само преступление совершено под дальним их давлением («призрак бродит по Европе – призрак коммунизма»), но теперь их появление на его территории требует прямого его участия, восстания всей его личности для отпора. Лужин, страждущий заполучить, ухватить эту красоту и цельность попросту женитьбой (и ошибшийся единственно глупостью – как ошибутся, непременно, и нынешние наши «женихи»), Свидригайлов, с шантажом и уловками вместо женитьбы, о коей нет и помышления – и нападение на Россию зверино-сильного фюрера (тоже с «идеями», но с европейской подлостью и коварством – и тоже почти «достигшего»…) – все это требует одинаково полной мобилизации сил. (Рискнем дополнить, что, в предельно ограниченной и сдержанной аналогии, Лужин отчасти подобен «союзной» нам Европе, в ее развитии от Антанты до позднейшей ипостаси «союзника» – вплоть до «второго фронта» в 1944 году, когда стала ясна и слишком опасна самостоятельная победа России, и сегодняшней «родственности» нам НАТО, МВФ и Парижского клуба; Свидригайлов же «эпохи Марфы Петровны» ближе кайзеровской – а по приезде его в Петербург уже гитлеровской – Германии. Самоубийственная его претензия на Дунечку потребовала, заметим, напряжения всех сил ее самой и всей семьи).
Все это мобилизует, но и изматывает душевные силы Родиона Раскольникова. А между тем украденная у старухи дребедень вовсе не востребована – даже не сосчитана! – и лежит под камнем; является же странность в лице Сони и нечто вовсе неожиданное…
(Рискуя доверенностью читателя, могущего окончательно заподозрить нас в «подтягивании» реальности к действу романа, все же спросим в виде предположения или хоть предчувствия: не может ли появление Сони при отчаянных поисках опоры для души героя быть уподоблено растущей роли Православной церкви в период Отечественной войны – восстанавливаемой поначалу, сверху и снизу, тоже вынужденно, как бы скрепя сердце, в поисках опоры при тяжелейшем – подобном нынешнему – отчаянии народной России, напряжении ее сил, чтобы выстоять, выжить?)
Сразу несколько воздействий, поначалу воспринимаемых как единый в своей враждебности мир, начинает проникать в новую внутреннюю жизнь обороняющегося теперь ото всех героя. И роль в этих воздействиях Сони Мармеладовой поначалу самая слабая (мы еще вернемся к ней позднее). Сильнее и непосредственнее других, прямее воздействуют на его психику «идейный» гедонист Свидригайлов и следователь Порфирий Петрович, воспринимаемые им поначалу опять-таки неразличимо как враги, требующие одинакового отпора. Пытается воздействовать на приятеля и ничего не подозревающий, замечательно прямой и цельный Разумихин – воспринимаемый теперь бывшим приятелем как досадный дурачок…
Приглядимся поближе к персонажам романа. Что за личность Свидригайлов? Говоря фигурально, это благородный фасад, за которым все обрушилось: если угодно, отчасти – это циническая Европа с ее деляческой ставкой на низменность человека-животного, с претензией католицизма (а особенно кальвинизма) на единственность этой правды и их обоюдным уклонением от Христа. Конечно, это не тождественное совпадение. Свидригайлов не настаивает на «единственности» своего пути, слишком понимая, что никакого пути и нет. Аналогия состоит в «скуке», в отсутствии цели, в поисках, хлопотливых по видимости и безнадежных внутренне, – как раз и обусловленных отходом от Христа. «Идеи» его близки «идее» Раскольникова, и Свидригайлов не отказывает себе в циническом удовольствии настаивать на некоей душевной «общей точке» с героем – что приводит Родиона Романовича в замечательно сильное раздражение! Но это, пожалуй, и наша «европейничающая» «гуманитарная» интеллигенция с ее метаниями в пустоте рефлексии, с ее замечательной агрессивностью – от обреченности всех на свете теорий «прогресса»; это – тот же народ, только больной от «познанья и сомненья». Это и наш отход от веры! Здоровеннейшего вида мужчина, почти искательно осклабясь, протягивает молодому человеку руку: – Ну, не правду ли я сказал, что мы одного поля ягоды? – но в нем самом уже все сгнило. В попытке самоспасения он претендует на последнее, что может удержать его в жизни, здоровое и лучшее, – чувство Дунечки; но она отказывает ему именно в чувстве. Теперь все едино – хоть «на воздушном шаре с Бергом».