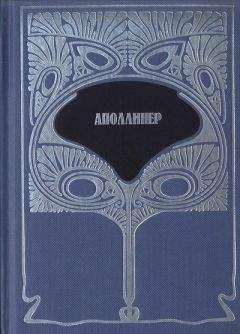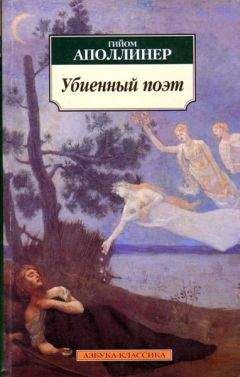Фернизун встал, щеки его пылали, он жестикулировал, я же смотрел на него, раскрыв рот. Он успокоился, огляделся и произнес с легкой гримасой отвращения:
— Устроились вы, Боже ж ты мой, хуже некуда! Впрочем, не в этом счастье. Но что-нибудь приятное для прочистки горла у вас все же должно быть. Вашим посетителям это весьма бы понравилось.
Я направился к камину, отодвинул экран и вытащил покрытую пеплом бутыль старого ликера из бергамотовых груш. Фернизун откупорил ее, пока я искал ему чашку. Я же тем временем расписывал ему тонкий вкус этого ликера, который получил из Пфальца от одного дюркхеймского винокура. Не слушая мои излияния, Фернизун наполнил чашку до краев и залпом осушил ее. Затем, пока я рассыпался в извинениях, он тщательно оросил последними каплями паркет.
— Вы, наверное, предпочли бы бокал?
Фернизун не соизволил ответить на мое замечание.
— И следует заметить, что вы, латиняне, не заблуждаетесь, любя нас, латинских евреев, — продолжил он свою речь. — Дело в том, что мы так же, как греки и сарацины из Прованса и с Сицилии, принадлежим к латинской расе. Мы перестали быть метисами подобно тому гетерогенному населению, которое великие завоевания заставили влиться в Римскую империю. Кроме того, мы лучшие пропагандисты латинского образа мышления. На каком языке в большинстве своем говорят болгарские и турецкие евреи, не на испанском ли?
Фернизун осушил еще одну наполненную до краев чашку грушевого ликера, затем, порывшись у себя в жилете, извлек из его недр пачку сигаретной бумаги. Он попросил у меня табаку, Я протянул ему табак и спички. Фернизун скрутил сигарету, раскурил ее и, трижды выпустив дым изо рта и ноздрей, заговорил снова:
— Что вообще-то составило разницу между евреями и христианами? Просто, когда евреи еще только надеялись на приход Мессии, христиане о нем уже вспоминали. Ницше взял на вооружение еврейскую идею. Сколько латинян прониклось идеей Ницше и верят в этого сверхчеловека! В нем не так уж и много от Мессии, но его приход предрекается Заратустрой, что заимствовано из «Вендидада», в котором прославляется священное слово, светозарные, самовоспроизводящиеся небеса, бесконечное время, воздух горних высей, добрый маздийский закон, закон Заратустры, направленный против дэвов!{23} У нас, латинских евреев, надежды не осталось. Пророки пообещали нам материальное благополучие, у нас оно есть. Во Франции, Италии, Испании к нам относятся как к своим. Мы свободны. И поскольку нам нечего больше желать, мы перестали надеяться, и правильно — Мессия уже пришел для нас так же, как и для вас. Поэтому охотно признаюсь: в глубине души я католик. Почему? — спросите вы. Потому что во Франции нет больше иудейской веры. Русские евреи, польские, немецкие сохранили внешнюю религиозность. Их раввины знают, преподают и укрепляют религию. Мы же едим жаркое на масле, уплетаем свинину, не думая ни о Моисее, ни о пророках. Я к тому же обожаю на званом ужине поесть супа из креветок и даже питаю слабость к улиткам. Древнееврейский? Да вряд ли большинство из нас сможет что-нибудь прочесть на нем во время Бармицвы{24}. Наши ученые-гебраисты — посмешище для иностранных раввинов, и французская талмудическая традиция, если верить немецким или польским евреям, просто памятник невежеству французского раввината. Отсюда следует, что еврейская религия мне неизвестна, она отменена как язычество или, вернее, нет, — так же, как язычество; она продолжает свою жизнь в католицизме, который привлекает меня особенно своими теофаниями{25}. Александрийский иудаизм прибегал к теофаниям лишь от случая к случаю. В то время они казались вульгарными и сказочными. Католицизм же воспользовался теофанией для утверждения своих догм. Чудо это возобновляется каждый день во время службы. История святого сердца Иисусова заставляет петь мою древнюю душу латинского еврея, зачарованного теофаниями и антропоморфизмом. Я католик, только некрещеный.
— Нет ничего проще, — заметил я, — примите крещение. Обряд этот может совершить над вами кто угодно — мужчина, женщина, еврей, протестант, буддист, магометанин.
— Знаю, — сказал Фернизун, — но я хочу приберечь крещение на потом. Пока что я развлекаюсь.
— Да, при крещении смываются все грехи. А раз воспользоваться этим можно лишь раз, вы хотите отложить момент сей на возможно дальний срок.
— Совершенно верно. В Мессию я больше не верю, но в Крещение верю. Вера эта дает мне все возможное наслаждение. Живу как нельзя лучше. Развлекаюсь восхитительно. Краду, убиваю, потрошу женщин, оскверняю могилы, но попаду я в рай, потому что верую в Крещение и кадиш{26} надо мной не пропоют.
— Уж не преувеличиваете ли вы? — осторожно прервал я его. — Судя по всему, вы начитались каких-то книжонок. Но будьте осмотрительны, смерть подкрадывается, как вор, неслышными шагами, когда и не ждешь, и, имей я счастье быть таким же верующим, как вы, я добавил бы, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Кстати, а что вы действительно читаете?
— Вас это интересует? Вот моя библиотека, она назидательна.
Он извлек из кармана две потрепанные книжонки и протянул их мне. Первая была озаглавлена «Катехизис авиньонской епархии», а вторая — «Венгерские вампиры» Дона Калмета{27}. Это произведение напутало меня больше, чем сами преступные признания латинского еврея. Я понял, что он вовсе не хвастается и человек, с которым я имею дело, — эрудит и кровожадный убийца-маньяк. Я бросил вокруг быстрый взгляд: хорошо бы найти, чем я буду защищаться, впади Фернизун в бешенство. На расстоянии вытянутой руки на этажерке я заметил крошечный дамский револьвер, испорченный и никчемный, — его уже давно полагалось выкинуть. Револьвер этот на сей раз спас мне жизнь, потому что Фернизун, воспользовавшись тем, что я отвернулся, вытащил из-за пояса нож, который прятал под одеждой. Я выронил книги, поспешно схватил крошечный пистолет, представлявший иллюзорную опасность, и навел его на латинского еврея. Тот побледнел, задрожал всем телом и взмолился:
— Пощадите! Вы меня не так поняли!
— Убийца! — воскликнул я. — Совершай свои преступления, которые ты считаешь простительными, в другом месте! Мои принципы не позволяют мне выдать тебя, но я желаю, чтобы отныне ты получил по заслугам за свои дикие выходки. Надеюсь, что поскольку ты трус, то жертв у тебя окажется немного, а так как ты очень болтлив, то сам себя и выдашь полиции. В Париже еще есть суд, и если ты и пройдешь обряд крещения, то пусть случится это на ступенях эшафота!
Пока я произносил все это, Фернизун подобрал свои книжонки и, вновь обретя вертикальное положение, весьма вежливо извинился, что испугал меня. Я приказал ему оставить у меня нож — очень опасный каталонский клинок. Он выполнил приказание и вышел, я же не сводил с него дула смехотворного миниатюрного пистолета, который не выпускал из рук.
* * *
Вечером из экономии я ужинал дома — колбасой и остатками паштета, к которому присматривался Фернизун. Я и представить себе не мог, какой подвергался опасности. Но мне еще предстояло понять весь мрак души латинского еврея. У меня начались невыносимые рези в животе. Паштет оказался отравлен. Фернизун вылил или высыпал в него какую-то гадость, от которой я должен был через несколько часов скончаться, не выпей я графинчика растительного масла, а потом рюмку глицерина. Началась спасительная рвота… Я бросился за молоком и, на счастье, обошелся без врача.
Все следующие дни газеты пестрели рассказами о сенсационных преступлениях, совершенных против женщин во всех уголках Парижа. Одну из них нашли голую и подвешенную, как флаг, раскачиваемый ветром, к жалкому подобию дерева посреди бульвара Бельвиль. Дети, старики были задушены. В дальнейшем будет отмечено, что дело касается только тех, кто не мог оказать сопротивления. С наступлением темноты прохожим, толпой спешащим по бульварам, женщинам и мужчинам, резали бритвой руки и бедра: бритва мгновенно разрезала одежду, потом — плоть. Бритва входила в тело безболезненно, и несчастные, обливаясь кровью, падали только через несколько шагов. Первые преступления приписывались бандам апашей и других татуированных дикарей, из тех, что пугают наши избранные души и приносят разочарование всем верящим в способности рода человеческого к самосовершенствованию. Другие злодеяния были отнесены на счет одного из маньяков, которыми кишат суды и Сальпетриер{28} и которые никогда там не переводятся. Я неоднократно испытывал искушение выдать автора всех этих преступлений. У меня-то ведь не возникало никаких сомнений, что им был новообращенный Габриэль Фернизун, который в ожидании крещения не сидел без дела. Эгоизм восторжествовал. Я ускользнул от чудовища, предоставив ему возможность действовать на свободе.