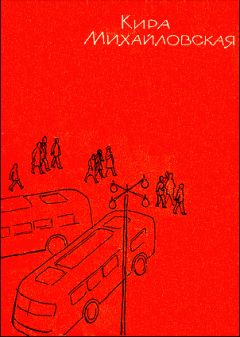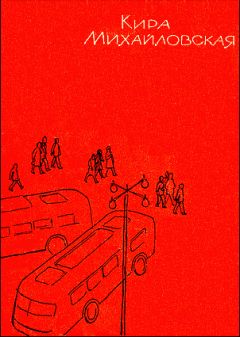На фотографии сияло солнце. И небольшой дом смотрел прямо в объектив двумя длинными окнами. Он так был важен, так исполнен чувства собственного достоинства — ну точь-в-точь человек, выбившийся наконец в люди. И была в нем необходимая для такого человека умиротворенность, если не самодовольство. Ни за что не скажешь, что за стенами этого дома живут сильные, глубокие чувства. Может, чувств и не было бы, не вторгнись сюда несчастье?..
Я возвращаю фотографию Микколайнену. Он прячет ее в бумажник. Устанавливается тягостная тишина, как будто вместе с бумажником во внутреннем кармане Микколайнена исчезли суета, хлопоты и волнения прошедших дней и не осталось ничего, кроме напряженного ожидания. Как будто вся прошлая суета и хлопоты, беготня по музеям и докторам, достопримечательностям и магазинам — все это имело только один смысл, было торопливой и мелочной подготовкой к тому, что произойдет сейчас. Длинное-длинное молчание.
В комнату входит женщина. У нее в руках небольшой ящик. Она открывает его и достает бинокль. Обыкновенный бинокль, вроде тех, какие мы берем с собою в театр. Только у этого бинокля с обеих сторон тонкие дужки. Женщина подходит к Лео. Тихо. Скрипнул стул. Это старый Микколайнен подался вперед всем телом, Женщина отдает Лео бинокль.
— Смотрите сюда. Меня видите?
Я перевела. Лео молчит. Микколайнен встал со стула, делает несколько шагов навстречу сыну. Останавливается, не дойдя до него.
— Видите меня? — повторяет женщина.
— Да, вижу, — наконец говорит Лео с таким трудом, будто к нему возвращается не зрение, а речь. — У вас на голове шапка… с козырьком.
— А это? — Женщина вынимает из кармана картонку с буквой «Ж». — Что это?
— Это забор.
— Какой забор? — спрашивает женщина.
— Какой забор? — спрашивает старый Микколайнен,
— Тот, что был у нас давно. У нас был такой деревянный забор.
— Да, да, он верно говорит. Был этот забор — был!
Микколайнен подходит к женщине, берет ее за руку, он говорит, заглядывая ей в глаза:
— Какая память у моего сына! Какая у него память!
Он говорит это все громче и громче, а женщина улыбается и гладит старого Микколайнена по плечу.
…Мы возвращаемся в гостиницу. Мы держим на коленях ящик. В ящике лежат очки. В этих очках Лео видит.
14
Чемоданы наши погружены на тележки, и носильщики уже покатили эти тележки по деревянной платформе. Мы идем позади тележек, позади носильщиков, натягиваем на головы капюшоны и раскрываем зонтики. Москва провожает нас дождем. Прежде чем сесть в поезд, надо получить талончик с номером места у Аарне и найти на тележке свой чемодан. Это делают все. Кроме меня. Я бегаю и считаю своих туристов. Это очень трудно, потому что туристы не стоят на месте, а входят в вагон, разгуливают по платформе, ищут свои чемоданы. И к тому же льет дождь, и высоко поднятые капюшоны плащей делают людей похожими один на другого. Я заглядываю им в лица и считаю: девятнадцать, двадцать, двадцать один… Какая-то взволнованная женщина подбегает ко мне: «Мой саквояж! Он был на этой тележке, а сейчас его здесь нет». Мы бежим к тележке, ищем, ничего не находим, бежим к следующей, ищем там, не находим снова, и только на третьей тележке из груды чемоданов туристка извлекает пестрый, заклеенный этикетками саквояж, успокаивается и входит в вагон. Я растерянно оглядываюсь: сбилась со счета. Вхожу в вагон и начинаю считать сначала: один, восемь, десять… Когда я выхожу на платформу, никого уже нет. Пустые тележки уехали куда-то, мой чемодан стоит одиноко посередине и по нему стучит дождь. Аарне ведет переговоры с проводником, считает железнодорожные билеты. Я заталкиваю свой чемодан в вагон и перебиваю Аарне:
— Послушай, одного человека не хватает.
— Как не хватает?
— А так. Нету, — я развожу руками.
Аарне отмахивается:
— Найдем. Погоди. — И снова начинает считать билеты.
Наконец билеты пересчитаны. Все вопросы выяснены, и я снова иду считать туристов, на этот раз с Аарне. В вагоне считать легко: двадцать восемь, двадцать девять… Одного не хватает! Я смотрю на Аарне. Он почесывает затылок, потом вскидывает голову, легко касается моего плеча ладонью и говорит по-русски: «Минутошку!» Он достает из кармана список, и начинается перекличка: Асикайнен, Аскиля, Бьернстед… Люди выходят из своих купе и, когда против их фамилии появляется птичка, уходят вновь. Когда Аарне доходит до фамилии Орава, никто не появляется в коридоре.
— Орава! — кричит еще раз Аарне. Снова молчание. Аарне вопросительно взглядывает на меня. Потом быстрым шагом он направляется в купе, где должна ехать Орава. Я иду за ним.
В купе, в самом углу, сидит Майя. Она повернулась спиной к двери и смотрит в окно.
— Эхей, — говорит Аарне, — привет! Где же твоя сестра?
Майя смотрит на нас, и лицо у нее совсем скучное.
— Не знаю, — отвечает она.
— Но где же ее чемодан?
— Вот. — Майя показывает рукой на верхнюю полку.
— Как же он попал сюда?
— Я принесла его.
— А где сестра?
— Не знаю.
— Но где ты видела ее в последний раз?
— Там, в зале. Там было много народу, а когда мы вышли на платформу, ее уже не было.
Конца разговора я не слышу. Я выскакиваю из вагона и бегу по платформе. Состав длинный, бежать приходится долго. В зале ожидания — толкотня. Я раздвигаю руками толпу людей, оглядываюсь и ищу, ищу эту сумасшедшую, эту ненормальную женщину. Иных слов я не могу для нее придумать! До отхода поезда остается пятнадцать минут. Двенадцать. Десять. Семь.
— Асья, Асья! Нэйти! Тулкки! Опас! — вдруг кричит кто-то на весь зал.
Любопытные останавливаются вокруг меня. Я знаю, что поезд уйдет через семь минут, и за эти семь минут нам с Орава надо успеть добежать до своего вагона. Я знаю это, хотя еще даже не вижу Орава, а только слышу голос, кричащий по-фински:
— Нэйти Асья!
И вот Орава рядом. Я хватаю ее за руку и устремляюсь к выходу, а она щебечет мне на ухо:
— Как хорошо, что вы понимаете по-фински, а то меня здесь никто не понимал.
Я тащу ее по платформе, дождь заливает мне лицо, течет за воротник. А Орава трещит без умолку:
— У вас совсем не знают финского языка, и объясниться совсем невозможно. Представляете, как я обрадовалась, когда увидела вас!
Вот наш вагон. Я впихиваю Орава, вскакиваю сама, проводник вытягивает из-за пояса желтый флажок. Поезд сдвигается с места и медленно ползет вдоль платформы. Отступают, отступают фонари. Дождь начинает косить. «Господи, все в порядке!» Я стягиваю с головы платок и глотаю дождь, сбегающий по лицу. Достаю носовой платок, вытираю волосы, лицо, шею. Кто-то кладет мне руку на плечо. Оборачиваюсь. Аарне.
— Молодец!
— Ну, ничего особенного, — бормочу я.
Я устала и иду прямо в свое купе. Раздеваюсь, привожу себя в порядок и слышу, как ругают мои туристы Орава и как она говорит громко и быстро:
— А что я могла сделать? Они все твердили мне, что они пионеры, а разве это красиво, если бы я отказала пионерам? Такие славные мальчики. Я им отдала все значки, какие у меня были, и две открытки — больше не было. Но зато смотрите, сколько я получила.
Наступает тишина. Никто больше не ругает Орава. Вероятно, все смотрят значки.
В сумерках пробегают за окном предместья Москвы. Дождь все еще льет, и капли катятся по стеклу, набегая снова и снова.
15
В Ленинграде тоже был дождь. Асфальтовая платформа потемнела, а в лужах плавают осколки серого ленинградского неба. Я стою на платформе около нашего вагона. Меня окружают мои туристы. Когда поезд тронется, туристы отправятся дальше, в Финляндию, а я останусь здесь, выйду на площадь, сяду в троллейбус и поеду домой. И больше, наверное, с этими людьми я никогда не встречусь. Оттого, что к этим людям я успела привязаться, а теперь мы прощаемся с ними совсем, то есть навсегда, — мне становится грустно. Им, наверное, тоже, потому что они стоят притихшие, и даже у нашего неутомимого Аарне сегодня совсем невеселое настроение. Я держу в руках чемодан, потом кто-то спохватывается и отбирает его у меня. Мы говорим о вещах незначительных и произносим стертые слова прощания:
— Приезжайте к нам в Хельсинки. Непременно.
— А вы приезжайте еще раз к нам.
И вдруг Аарне предлагает: «Споем что-нибудь!» — и первый затягивает песню. Несколько голосов подхватывают ее.
Она звучит нестройно и тихо. Я эту песню уже слышала и тоже пытаюсь подпевать: «Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa». — «Суоми — мое отечество. Суоми — милая родина».
Что-то печальное есть в этой песне, в словах и мотиве, какое-то щемящее чувство, не то тоска по прошлому, не то предчувствие близкой беды. Ее и создал, наверное, человек, жизнь которого была не очень-то устроена и не слишком богата радостями. Суоми — мое отечество. Суоми — милая родина…