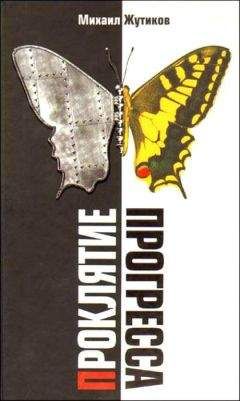4. Происхождение порчи (продолжение)
Где скрыта порча, если таковая была? Все шло так славно: Галилей, Ньютон… Неоглядные горизонты открывались перед надеждами еще какого-нибудь XIX столетия: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» (А. С. Пушкин). Сегодня, повсеместно отступая, жизнь не успевает увертываться от «открытий чудных», воистину чудом умудряясь еще существовать – подобно пациенту, который, несмотря на лечение, остается жив. «Столбовая дорога науки» (Кант), говоря фигурально, уперлась в забор перед мировой помойкой. Ведал ли К.Э. Циолковский уже в нашем столетии, что космические запуски станут разрушать защитный озоновый слой над «колыбелью разума»? (Крылатая фраза Циолковского нынче подзабыта, напомним ее: «Земля – колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели». Образный язык уязвим тем, что утверждение легко переиначить, например, так: нельзя жить не только в колыбели, но и в гробу! – оппоненты расходятся, довольные собой, слушатель остается при нулевом результате.)
Несмотря на видимый факт глубокого поражения жизни и несомненное банкротство научного предвидения, ценность самой идеи насильственного преобразования природы по сегодня не подвергается сомнению. Возлагаются самые трогательные надежды на проекты планетарного экологического моделирования, синтез наук и прочее – только бы не отвергать саму логику насилия, обусловленную уже развернутыми технологиями и безоглядным ростом потребления ресурса. Дело не в одной корысти: ложность пути очевидна далеко не для всех. «Упертость» отдельных умов и инерция целого, объясняя движение, сами имеют глубокие причины.
Выше мы приводили некоторые примеры научно-технического синтеза, приводящего к результату, обратному цели, избежать которого становится все труднее. Соотечественникам, вероятно, невозможно не вспомнить о примере синтеза научно-социального: научной теории коммунизма и процедуре ее внедрения в российскую практику. Вспомнить о нем в контексте нашего исследования оказывается совсем небесполезно. В этом рассмотрении мы затронем по возможности лишь собственно идейную, бесстрастную сторону дела.
Быть может, читатель согласится, что главная странность этого внедрения в том, что оно намечалось «в интересах» трудящихся людей, а между тем жизней именно трудящихся людей (хлеборобов) в одну только коллективизацию 1929–1933 годов это «внедрение» унесло многие миллионы (по минимальным оценкам, более десяти. Н.Лосский оценивает суммарную довоенную гибель с 17-го года не менее чем в тридцать миллионов – миллионы не можем подсчитать!! (см.: Н. Лосский. Достоевский и его христианское миропонимание) – и это, заметим, гибель на 90 % русских, малороссов и белорусов, и это – заметим еще – в основном, вполне здоровых людей и детей). Очень вероятно, что если бы не косное крестьянское сопротивление идее и не эластичность (некоторая) ее самой – будь догма модели, в которую предполагали нас упрятать, жестче, проводись она в жизнь последовательнее (то есть имейся для этого сила, сильнее большевистской) – и ко времени окончательного счастья не осталось бы ни одного живого трудящегося человека. (По крайней мере, именно превращение всех будущих счастливцев в бессловесное стадо имел в виду в близкой перспективе Л. Троцкий, опаленно ненавидевший русский народ; для несогласных предполагалось устранение.) Дополнительная странность оказалась в том, что плановое, то есть монопольное, хозяйство приучило наконец к экономической стабильности, но и тем самым к застою и даже производству брака: главное было – отчитаться перед руководством, у потребителя же выбора не было. Но вовсе не это было предусмотрено теорией, а благо потребителя! Распределение «по труду» странным образом выходило все несправедливее; необозримое «наше» стало диалектически обращаться в «ничье» и т. д. Наконец как-то без лишних разъяснений, само собой обнаружилось, что и главная приманка – «каждому по потребностям» – невозможна, и от теории в ее лучшем назначении ничего не осталось. Продолжалась одна инерция, и она закончилась. По последнему пункту, о потребностях, следует сказать, что и теории-то не было, а был обман, однако учение в целом было (хоть это теперь оспаривается) наукой (налицо и анализ модели, и логический синтез), и не какой-нибудь заштатной, а последним словом социальной науки Запада.
Интересно отметить, что тот «новый человек», который предполагался конечной целью коммунизма, таки выведен. Это именно он, потомок комбедов и сын комсомола, изумляет нынче простоватый Запад жестокостью, коварством и продажностью. Сдерживаемый кнутом, он еще тянул советский воз. Нынче он убивает изо всех видов оружия, не знает пощады к детям, подделывает все виды денег и документов и вытесняет сицилийские кланы из мест их обитания. Не имея внутренних сдержек, оторванный от национальных корней, от религии, воспитанный на ярчайших примерах людей, для которых ложь не составляет нравственной проблемы, наученный, подобно Павлуше Смердякову, одному: «Бога нет», он летит по миру, как Господень бич, признавая правилом одну алчность, а законом – только пулю. Неуважение к себе, к образу Божьему в себе ведет тем паче к неуважению к живущему другому, утере уже и людского облика. (Скажут: это и было всегда в народе; разумеется, в зачатке в каждом из нас было (и есть) все. Но именно это гасила религия и именно это всячески стимулировала и развивала передовая большевистская «наука»). Обкушавшись суррогата «морального кодекса строителя коммунизма», в православной стране убивает сегодня русский русского, сын – отца, друг – бывшего друга. (И истинно высшую подлость выказала как раз наша «ум, совесть и честь нашей эпохи», совершившая предательство своей родины будучи во главе страны). Не может опять не поражать, если можно так выразиться, степень обратности результата по отношению к научной теории…
Нет сомнения, что и в этом случае выявился коренной изъян научного метода – замена бесконечного конечным, – ибо и в социальной модели было пренебрежено куда как многим «второстепенным» – и в пренебрежении опять оказались сами основания жизни! Таким образом, убийственное технологическое воздействие на растительный и животный мир и, казалось бы, далекое от темы грандиозное коммунистическое строительство и его всепланетный провал – это, несомненно, обломки планетарного крушения научного метода преобразования мира, своего рода «головокружение от успехов» научного познания.
На первый взгляд это утверждение может показаться надуманным, даже недобросовестным: при чем здесь вообще какой-либо метод? О какой науке идет речь, нужно бы уточнить? Наконец, разве не наука забила тревогу по поводу сохранности среды обитания? Однако факты, рассеянные на всем победительном пути научного познания: чудовищное искажение практических результатов сравнительно с целями преобразования, сама глубина поражения жизни, его нарастающая скорость, уже очевидное уродство технологического развития, а фактически несовместимость его с жизнью – убеждают с определенностью: главный инструмент преобразования, современная аналитическая (логизированная, математизированная) наука – по крайней мере в части внедрения теорий в практику, научного синтеза – вошла в глубокий антагонизм с жизнью природы (следовательно, человека). Как будет видно, это не случайность, не следствие «ошибок», но закономерный итог применения научных принципов: не годятся к использованию не только «вершки», но и «корешки». Все началось не сегодня: наш век только выявил серьезность конфликта, резко его обострив.
Как из возвышенных конструкций теоретиков мог выйти монстр разрушения земной жизни? когда случился переход от обсуждения устроения миров к «устроению» экологического кризиса, с его все возрастающей «научностью»? какую роль могли сыграть в том установочные положения великих основателей? – в попытке исследования этого мы обратимся к ключевым моментам в истории аналитического метода.
…Хотя мы затрудняемся в отыскании первоначальных истоков научного анализа, прародителем его по совокупности заслуг (с оговорками, мало существенными для наших целей) можно, по-видимому, считать Платона. За две тысячи лет до Декарта великий мыслитель открыл вещь преловкую: что из реального предмета и явления можно извлечь идею предмета и явления, очищенную от несущественного и несовершенного в предмете – от всего «портящего» идею, и даже (говоря точнее) от существенного, но второстепенного по отношению к идее. И того более: что можно извлечь одну и ту же идею из весьма несхожих предметов (например, из «предмета» Земли как астрономического тела и «предмета» ежа, свернувшегося в клубок, – одну и ту же идею шара… Сам Платон, верно, не привел бы «ежового» примера; это не меняет дела). Мало того, именно идея является сутью реальности. И, наконец, идея – и вовсе единственная реальность. То, что мы видим перед собой, – лишь ее неудачное воплощение, так сказать «идея второй свежести», что-то вроде производственного брака. От сей крайности, правда, остерегал философа Аристотель: «Платон мне друг, но истина – еще больший друг». Идея, поправлял он платонизм друга, все-таки извлекается из реальной вещи разумом.