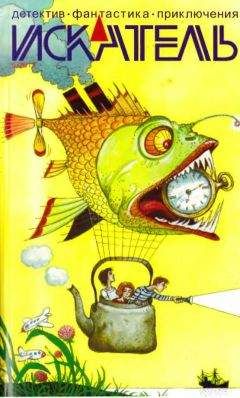Ознакомительная версия.
Проблема «большинства» и «меньшинства» в обществе – не социально-арифметическая, а социально-политическая. Там, где в общественной жизни нет значимого меньшинства, где не слышен голос отдельного человека, не существует и «большинства». Всякого рода тирании и диктатуры в давнем и недавнем прошлом могли получать поддержку толпы (хотя опирались не на толпу, а на организованный слой преторианцев, опричников и т. п.). В толпе же – разгневанной, восторженной или напуганной – по определению невозможно ни меньшинство, ни большинство, там можно либо поступать «как все», либо быть раздавленным этими «всеми». Единственный голос, который слышен в толпе, – призывный клич вожака. Конечно, сопоставлять общество, тем более современное, с толпой правомерно лишь с большой долей условности, на модельном уровне. Лет полтораста тому назад один радикальный публицист (Н. Добролюбов) с гневом и печалью писал, что, если бы на десять тысяч «дураков» нашелся один «умный», «все развалилось бы в двадцать четыре часа». Понятно, что речь шла о степени послушания режиму и правителю, на современном социологическом языке – о структуре поддержки; цифры же имели смысл сугубо метафорический. Времена меняются, нерешенные задачи остаются. В том числе – социально-историческая задача формирования общественных структур, в которых имели бы значение и большинство, и меньшинство, и отдельная личность.
«Человек обыкновенный» в двух состояниях
Поддержанию теоретического интереса к теме социального типа человека способствуют перипетии сугубо практического, событийного плана: образ человека ушедшей эпохи – на различных его уровнях – не только не уходит со сцены, но порой приобретает новые значения. Ссылки на этот образ («нашего человека», «совка», «русского человека» – «чего от него ждать?» или «что же с ним можно сделать?» и т. п.) нередко исполняют в обществе функцию оправдания сложившейся тупиковой социально-политической ситуации. Многие данные текущих опросов общественного мнения можно использовать для подтверждения тезиса о том, что именно эта ситуация соответствует интересам «большинства». Ранее приходилось рассматривать сомнительность самой аргументации в парадигме «большинства» и «меньшинства» [61] . Но другая слабость, если не порочность, «социологического» оправдания действительности – в игнорировании условий сохранения, воспроизводства (и использования) получаемого в опросах образа человека.
Только в последнее время становится более или менее ясно, в какой мере эти условия сохраняются или трансформируются в обстановке социальной нестабильности, как меняются функции демонстративных и латентных факторов, «большинства» и «меньшинства».
«Обыкновенность» человека: рамки и переходы
В контексте различных исследовательских задач используются различные варианты определений и классификаций типов социального человека. В частности, такие термины, как «массовый», «простой», «средний», обозначают, что предметом внимания является неспециализированный, неэлитарный, неисключительный тип и т. д. В настоящей статье делается попытка рассмотреть тот же по существу предмет исследования под другим углом зрения – не содержания, а скорее состояния. Обыкновенное состояние человека следует ограничить от состояния возбужденного (напряженного, экстраординарного). Обыкновенное не сводится к «повседневному», так как с необходимостью предполагает функциональное взаимодействие будничного и праздничного, ритуального и инструментального, трагического и иронического и прочих начал или сфер жизни человеческой. Поэтому же несводимо оно и к «обычному» (возникают ненужные аналогии с обычаем, обычным правом и пр.). Нельзя описывать «человека обыкновенного» как меньшинство, большинство, часть и т. п. – это «все», но в определенном состоянии (или – соотношении компонентов), за довольно редким исключением одержимых собственным величием политических маньяков и их фанатичных поклонников. Это те самые «все», которые более или менее удачно (а чаще – просто привычно или по примеру окружающих) сочетают «дружбу» и «службу», обязанности и привязанности в различных сферах, отнюдь не противопоставляя их друг другу. Которые при определенных обстоятельствах могут выходить из состояния обыденности, отдаваясь волнам массового страха, восторга, ненависти, поклонения или какого-то безудержного увлечения (соблюдая принципы аналитической объективности, стоит остерегаться описания таких фазовых переходов как подъема или, наоборот, падения). И каждый раз возвращаются из особого («возбужденного», чрезвычайного) состояния к обыкновенному.
Применимо же представленное различение состояний не только к социальному типу человека, но также к типам общества или социального времени (периодам). Бывают времена напряженные (жертвенные, трагические и пр. – все это можно представить как варианты «мобилизационных» состояний) и времена обыкновенные, когда подвиги не требуются, а жертвы воспринимаются как случайные и огорчительные потери.
В напряженные времена от «человека обыкновенного» требуют того, на что он в принципе не способен, поэтому его пытаются унижать, пугать, ломать, понуждая его хотя бы сделать вид, что он готов к подвигам и жертвам, точнее, к страданиям и потерям. (А он стремится лишь к тому, чтобы уцелеть в невозможных условиях.) В переходные, «разоблачительные» эпохи становится общепризнанным, что значительная часть подвигов сочинена, а позорные потери выданы за искупительные жертвы. Во времена обыкновенные все виды принудительной напряженности уходят в мифологическую память, а деятели, претендующие – по должности – на великие свершения, выдают себя за простых парней «как все». Опыт избирательных и тому подобных имиджевых кампаний в разных странах дает множество поясняющих примеров (ср. недавнее заявление российского лидера об отсутствии намерений выдавать себя за выдающегося деятеля века…).
«Смешение» времен, о котором идет речь, многократно создавало – и постоянно воссоздает вновь – почву для имитационных структур деятельности, соответствующих символов и персонажей. По мере того как откладывается в туманное будущее формирование общественной системы, способной к «социальному самовоспроизводству», в том числе к воспроизводству моральных и эмоциональных факторов собственного существования (например, надежд и доверия в отношении социальных институтов, властной иерархии, ее функционеров), неизбежно усиливается соблазн использования имитативных структур, легитимации существующих порядков с помощью символов исторической мифологии, апелляций к «великому (чаще – легендарному) прошлому» и т. п. Результатом, впрочем, оказывается также сугубо имитативная конструкция – самооправдание для какой-то части высшей элиты, которое даже она сама не принимает всерьез (функциональная аналогия «платья» известной коронованной особы). Оказавшись в пограничном слое между вызовами реальности и навязанными иллюзиями, «человек обыкновенный» чаще всего предпочитает лукавую и, в принципе, бесперспективную позицию – не перечить, но и не принимать всерьез то, что ему предложено в качестве имитации священных символов, опор или прикрытий. Можно сформулировать содержание такого приема в более строгих терминах: определение собственной ситуации через отдаление человека от центральных (или болевых, напряженных) локусов системы социальных значений. Или, перефразируя известную фольклорную формулу: «человек обыкновенный» обыкновенно (т. е. в «нормальной» для него ситуации) ищет, где спокойнее, и эту позицию признает «лучшей».
«Близкое» и «далекое» как параметры социального расстояния
Характеризовать относительное расположение социальных феноменов, видимо, можно по-разному, учитывая варианты долгосрочных и кратковременных интересов в соответствующих условиях и пр. Один из приемлемых подходов – оценка («измерение») расстояния рассматриваемой позиции от позиции, «близкой» для человека.
Два примера. «Вторая чеченская» начиналась, как известно, под массовые аплодисменты, как решительная, но далекая от «человека обыкновенного» акция обновленной власти; массовое участие и массовые жертвы (со «своей» стороны, – а по опросным данным, людей только она и волнует) не предполагались. Когда же по обоим этим показателям война оказалась все более близкой (а ее успех – все более далеким), критерии и оценки бесповоротно изменились, поскольку военные действия стали восприниматься в плане «своих» жертв и «своей» боли, – не говоря уже о почти повсеместном страхе перед новой, террористической опасностью. Немалая часть российского населения переживает чеченский опыт как непосредственно личный (сами или их близкие прошли через эту войну). Эту ситуацию приближения в принципе не изменило превращение переживаний, связанных с чеченской войной, в привычные – произошла своего рода смена острой боли хронической.
Ознакомительная версия.