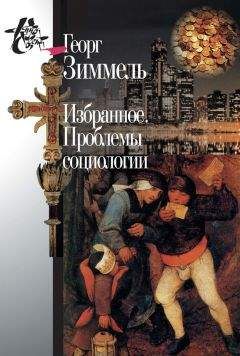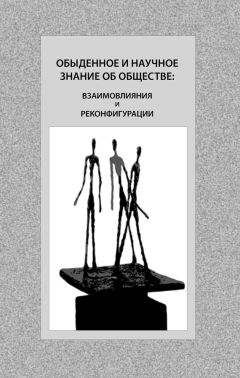Ознакомительная версия.
Однако еще важнее, чем отвергать здесь измышления исторической теории возникновения религии, исключить какие бы то ни было вопросы об объективной истине религии, вытекающие из этого исследования ее связей. Если удастся понять религию как событие, состоявшееся в жизни человечества, исходя из внутренних условий этой самой жизни, то это еще отнюдь не имеет никакого отношения к проблеме, содержится ли в предметной, вне человеческого мышления положенной действительности нечто соответствующее этой психической действительности и подтверждающее ее. Так психология познания пытается понять, каким образом наша картина мира является пространственной, простирающейся в трех измерениях, но она оставляет на долю совершенно иных исследований выяснение того, существует ли по ту сторону наших представлений мир вещей в себе или нет. Конечно, всюду можно дойти до такой точки, где объяснение совокупности внутренних фактов, исходя из сугубо внутренних условий, уже недостаточно, и лишь внешняя действительность способна замкнуть причинный круг действительности внутренней. Но такую возможность или необходимость должен принимать во внимание только тот, кто желает исчерпывающим образом постигнуть сущность и возникновение религии, – а к нам это не относится, поскольку мы попытались всего лишь проследить направление только одного из лучей, собирающихся в фокусе религии.
И наконец, самое важное: значение религии для чувства, т. е. отражающееся в самых интимных глубинах души действие представлений о божественном, совершенно независимо от всех предположений о том, каким образом эти представления возникли. В этом пункте наиболее сильно непонимание историко-психологического выведения идеальных ценностей. Широкие круги до сих пор представляют себе дело так, будто идеал разоблачен и лишен притягательности, будто достоинство чувства принижено, если возникновение его не есть уже непостижимое чудо, творение из ничего; будто понимание становления ставит под вопрос ценность ставшего; будто низменность исходного пункта принижает высоту достигнутой цели, а непривлекательная простота отдельных элементов разрушает высокое значение продукта, состоящее в совместном действии, оформлении и переплетении этих элементов. Это – дурацкое, путаное убеждение, что человеческое достоинство осквернено происхождением человека от низшего рода животных, – как будто это достоинство не основывается на том, что человек в действительности есть, и не все ли равно, откуда он берет свое начало. То же самое убеждение всегда будет противиться пониманию религии, которое исходит из элементов, самих по себе еще религией не являющихся. Но именно такому убеждению, будто возможно сохранить достоинство религии, отвергнув ее историко-психологическое выведение, можно поставить в упрек слабость религиозного сознания. Очень уж малы должны быть его внутренняя прочность и глубина чувства, если оно видит угрозу в познании пути своего становления, да и вообще считает себя сколь-нибудь этим задетым. Ведь подобно тому как подлинную и самую глубокую любовь к человеку не тревожит приходящая позже ясность относительно причин ее возникновения, а ее торжествующая сила обнаруживает себя в том, что она живет и после того, как все эти предшествующие условия отпали, – так всю силу субъективного религиозного чувства докажет только та уверенность, с какой оно покоится в себе самом и ставит свою глубину и интимность совершенно по ту сторону всех источников возникновения, к которым его могло бы свести познание.
Дискуссии о существовании Бога нередко выливаются в такое заявление со стороны тех, кто дает положительный на него ответ: хотя он и не скажет, что есть Бог, он верит или знает, однако, что Бог есть. Это далеко от представления мистика: Бог как «ничто»; мистик не желает высказывать о нем что бы то ни было определенное, каковое по необходимости будет чем-то односторонним, ограниченным, исключительным, а тем самым будет отрицанием всеобъемлющего, всепроницающего, абсолютного характера божественного начала. Божественное «ничто» мистика означает, что Бог не является чем-то одним как раз потому, что он есть всецелое. Первое утверждение, однако, никоим образом не содержит в себе этого пантеистического смысла, зато держится чудесной нелогичности: предполагает существование чего-то, о чем вообще ничего нельзя сказать, чем оно, собственно, является. Критик мог бы сразу возразить: по какому праву это нечто именуется Богом? Тогда Бог – пустое слово, коли его реальность предполагается, но никак невозможно показать, что же реально скрывается за этим именем. Психологическое основание такого поведения может быть следующим: для современного человека понятие Бога обросло столь многими историческими содержаниями и возможными толкованиями, что у него осталось только бессодержательное чувство чего-то самого всеобщего, как будто речь идет об абстрактном понятии, выражающем то общее, что имеется во всех тех разнообразных определениях, которые давались этому понятию. Можно обозначить это как крайность веры: тут, так сказать, только верят, в душе действенна лишь форма веры как таковая, тогда как ее содержание остается совершенно непередаваемым. Со стороны объекта это можно выразить следующим образом: вопрос или факт бытия в логике религиозного сознания обрел такое господство, что существование, так сказать, поглотило собственное содержание. Для подобной акцентировки, впервые отчетливо прозвучавшей у Парменида, есть лишь всеохватывающее бытие, тогда как все определенности, все то и это, несущественны и ничтожны. Весь интерес тут смещается к бытию Бога и – сколь бы удивительным это ни казалось в таком абстрактном выражении – в бездне этой мысли о бытии теряется то, чем Бог является. Эта объективная сторона увязывается с субъективной: предметом веры оказывается бытие. Рассудок, интуиция, предание задают «что» и «как», но четко обрисованные ими образы остаются не до конца определенными в своей идеальной и по-прежнему сомнительной понятийности. Лишь вера дает им бытийную прочность, каковая вообще недостижима для рассудка и фантазии с их количественными и качественными определенностями. Вера являет собою как бы тот орган чувств, посредством которого нам дано бытие как таковое.
Эта тесная взаимосвязь, в которой только вера делает доступным бытие и где, строго говоря, вера направлена только на бытие, намечает, так сказать, один полюс религиозно направленного сознания. На другом полюсе скапливаются те душевные энергии, которые строят религиозный мир по его содержанию: определения божественной сущности, священные факты, императивы поведения. В жизненной действительности религии оба полюса составляют непосредственное единство (религиозное содержание и вера в его действительность), но при анализе – и не только в нем – они раздваиваются. На одном полюсе стоит религиозный человек как таковой, на другом оказывается философ религии. Для первого существенна вера, а ее содержание – хотя он может ради него даже пожертвовать собой – есть все же нечто вторичное. С одной стороны, это указывает на равнодушие многих глубоко религиозных натур ко всякой догме, с другой стороны, об этом говорит зависимость догматов от бесконечно изменчивых случайностей исторической ситуации, тогда как религиозное бытие преданных этим столь многообразным содержаниям личностей остается по сути тем же самым. Одной и той же, как форма религии, остается их вера в действительность – при всей разнородности содержаний этой действительности. Когда эти содержания делаются предметом конструкций философов религии, предметом психологического объяснения или логической критики, то и философам религии все равно, верят в эти предметы как действительные или нет. Mutatis mutandis[71], они подобны математику, имеющему дело с математическими фигурами, которого не касается, существуют ли их прообразы в реальном пространстве, какую роль они могут играть вместе с открытыми по их поводу закономерностями в процессах практического сознания.
Оставаясь в пределах этой философии, которая не принуждает к каким бы то ни было религиозным решениям, держась имманентного содержания религии, – ее смысла, ее взаимозависимостей, ее логического достоинства, – но не судя о ее действительности, я попытаюсь провести исследование понятия «личности» божественного начала. Ни одна другая сторона последнего не вызывала, наверное, столь расходящихся трактовок и столь страстных опровержений. Для Просвещения в этом понятии уже содержится доказательство того, что религия имеет дело с одним лишь обожествлением человеческого; пантеизм и мистика, напротив, отвергают его как очеловечение божественного. Но есть более высокая перспектива, ускользающая от внимания обоих лагерей критиков. Пусть личностное бытие человека будет психологическим поводом для возникновения «личностного Бога» – от этого независим логический и метафизический фундамент последнего.
Ознакомительная версия.