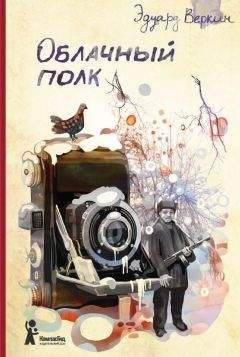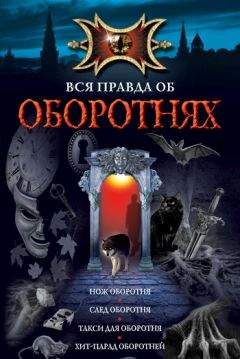Веркин Эдуард
Облачный полк
Глава 1
– Как свистеть-то?
– Можно не свистеть, можно кричать.
– Кричать?
– Издавать боевые кличи, – поясняю я. – Вот так, примерно.
Я кричу. Мне кажется, получается не очень. Пискляво, как-то даже капитулянтски, я от себя такого не ожидал. Вовка хихикает.
– Не страшно, – говорит он. – Совсем-совсем. Надо могучее. Я про теннисистов видел передачу, они всегда кричат, так сильнее бить получается. И каратисты кричат. И штангисты – они тоже ведь толкают. Толкать, наверное, тоже с криком легче?
– Наверное.
– Тогда попробую.
Вовка набирает воздуха, разворачивает облезлые от загара лопатки и с чужим криком срывается с места.
Перепрыгивая через корни сосен, выставив перед собой руки, несется по песчаному откосу, врезается в нос лодки. Бешено месит ногами песок, зарывается почти по колено, рычит, упираясь лбом в водорез.
Лодка сдвигается. Сантиметров на двадцать, на полшага.
– Видел?! – победно кричит Вовка. – Видел, а?! А ты говорил!
Он оставляет лодку, заходит по колено в реку, сует голову в воду. Минуту держит дыхание, легкие развивает.
– Тут везде рыба мелкая сидит, – Вовка выныривает, проглаживает ладонью волосы, отжимает влагу. – Килька какая-то наглая… Видел, как лодка сдвинулась? На метр!
– Так до вечера толкать будешь.
– Не, не до вечера. Уже немного совсем осталось, я уж додавлю.
Вовка вновь поднимается по берегу, собирает створки жемчужниц. Кажется, он собирается сделать из них ожерелье.
– Еще раза три, – говорит Вовка. – Потом вода уже сама подхватит.
Вовка прячет жемчужниц в рюкзак, поворачивается к реке, разбегается, врезается в лодку, двадцать сантиметров.
– Ага! – Вовка пинает посудину в бок. – Вот так!
Возвращается, набирает высоту, и обратно.
Этим он занимается уже почти час. Упорный, я бы давно бросил. Взял бы вон ту жердину, подцепил бы киль, навалился плечом, да и сдвинул. Или за корму раскачал, лодка бы и снялась. Но ему так не интересно.
Я сижу на обрыве, греюсь, шевелю пальцами, ага, суббота, суббота ленива, как старый пес. Особенно до обеда, смола и мед, и пахнет примерно так же, и в небе висят сонные птицы, кажется чайки, ну-ка…
– Это парапланы, – перехватывает Вовка мой взгляд. – В Рыбачьем пять штук, по восемьсот рублей катают. Говорят здорово. Над заливом, и вдоль берега…
Вовка вздыхает.
– Твой дед меня убьет, – отвечаю я.
– Да он и не узнает, – отмахивается Вовка. – Он свечи менять думает, теперь целый день провозится.
– И отец убьет, – напоминаю я.
– Отец сам с парашютом прыгнуть собирается.
– Он уже двадцать лет собирается. Еще пару годков и ни один парашют его уже не выдержит.
– Это да…
В полдень часы переворачиваются, время чуть ускоряется и жизнь уже не так интересна. А с восьми до двенадцати то, что надо, чувствуешь перспективу. Минуты не спешат, и ты не спешишь вместе с ними, можно забраться поглубже в кресло и смотреть на залив, на острую полоску воды между красными соснами, иногда там мелькает белый парус, а иногда зеленый.
Сегодня никакого.
Вовка залезает на сиденье лодки, срывает бандану, машет в небо. Поскальзывается, падает в воду, поднимается, трава через плечо, выбирается на песок. Толкает лодку, все, мимо, устал.
– Опять не получилось, – говорит Вовка. – Тяжелая…
– Помочь?
– Не, не надо, завтра сам столкну. Все равно сегодня не успели бы.
Это точно, сегодня мы вообще редко куда успеваем.
– Пойдем что ли…
Вовка смотрит на часы.
– Пойдем, а то опять орать будут. Весла только возьму…
Он сбегает к лодке, выворачивает весла. Тяжелые, почерневшие, настоящие весла с пиратских шлюпок. Забрасывает на плечи, продавливаясь в песок, взбирается наверх. Пытается насвистывать залихватское, весла раскачивают его справа налево.
Мы шагаем сквозь сосны, Вовка цепляется веслами, а тащить их вертикально у него сил не хватает. Когда падает в четвертый раз, начинает ругаться. Сначала ругает весла, затем лодку, затем своего тренера, погоду и почему-то японцев, чем уж они ему не угодили? И белок, которые обнаглели и украли у него с утра две чурчхеллы, они его доведут, возьмется за пневматику…
Весело у него получается, злобно. Очень скоро я понимаю истоки вдохновения – на веранде дома нас уже поджидают. И скоро ругают уже Вовку. Занудно, долго, на два голоса, один мудрее другого, мне надоедает это слушать, и я отправляюсь на веранду. Устраиваюсь в кресле, надеваю валенки, вытягиваю ноги. Валенки в августе, сон в субботний полдень.
В двенадцать просыпаются звуки. Вовка притащил из гаража стремянку и разбирает антресоли. Гремит алюминиевой посудой, роняет чугуны и подшивки «Роман-Газеты», роняет котелки, футляр от аккордеона, старые пластинки с небрежными царапинами вдоль и глубокими поперек, брошюры о лыжном туризме и аквариумистике, связанные в плотные пачки. Брякает самоварами – когда-то я коллекционировал самовары, можно сказать, был знатоком самоварного дела, до сих пор отличу по звуку – вот грохнулся настоящий столетний тульский пузан, двухведерный, с медалями, а вот наш, легонький, хотя и тоже тульский, покатился, как консервная банка, звук несерьезный.
А еще другие звуки, мопед, например. Дребезжащий и звонкий, похожий на будильник, спрятанный в кастрюлю, это у соседей справа, кажется, Ключниковы. Мальчишка и мопед, опасная смесь, бездельник снял глушитель и ревет на всю округу, приводя в ужас окружающих пенсионеров. Сорок лет назад бездельник снимал глушитель, и двадцать лет назад снимал глушитель, бездельник всегда будет снимать глушитель и нарушать покой мирных жителей.
Вовка чихает – ветер несет пыль с дороги, а окна я летом не закрываю. Всех дачников, кстати, эта пыль чрезвычайно раздражает, а меня вот нет, мне нравится, что вокруг песок и сосны, а какой песок без пыли? Она плещется в забытых ботинках, скрипит в подшипниках велосипедов, окрашивает в красный белоснежных резиновых лебедей. Но больше всего она, конечно же, любит черный лак «бумера», оседает на нем оранжевым марсианским порошком, а я нарочно не вытираю.
Во-первых, это бесит старшего. Это его тайная машина. Он приезжает сюда раз в месяц, полирует бампер и диски, слушает мотор, сидит за рулем, смотрит на воду. Никуда почти не ездит, просто смотрит.
Во-вторых, это нравится Вовке. Он рисует в пыли чертей. Это, конечно, не настоящие черти, а какие-то мультяшные беззубые звери, названия которых я никак не могу запомнить, а еще он пишет на полировке «козявка», «грязнуля», «деда, я чешусь». От этой живописи старший приходит в сдержанное бешенство, но ругаться не осмеливается, боится, что младший рассердится, и перестанет вывозить Вовку ко мне.
Голоса. Старший – сын, младший – внук. На даче прекрасная звукопередача, уж не знаю, отчего так, наверное, из-за воздуха, чистый воздух – как барабан, я все слышу. Ругаются из-за мяса. Младший жарит шашлык, а старший, оказывается, рассчитывал на кебаб. Говорит, что шашлык – это общее место, выйди к реке, и под каждой ракитой встретишь угрюмых людей с шампурами и тоской в глазах. Младший хихикает и предлагает познакомить старшего с одним хорошим ортодонтом, потому что если уж человек переходит с шашлыка на кебаб, ему стоит серьезно озаботиться…
Ну, и так далее. Из-за двери втягивается назойливый мясной дымок, просил у реки жарить, но они же ленивые, им не лень только собачиться, завтра залью им в мангал гудрончика, так, немного, для аппетита.
Собака, кстати, тоже брешет. Это у Лобановых. Пустолайка, соседи жалуются, а мне нравится, лает и лает, если лают собаки, значит, жизнь продолжается.
Вовка спрыгивает со стремянки, чихает, потирает нос, протягивает мне блестящую коробочку, Вовка – правнук.
– Это что?
– Папиросница. Очень удобная вещь, вот сюда сыпешь табак, вот сюда вкладываешь бумагу, поворачиваешь ручку и получается папироса.
– Зачем?
– Курить.
– Понятно. А я думал, вы раньше только трубки курили.
– Я вообще не курил.
– А зачем тогда папиросница? Это память?
– Ага.
Вообще-то это не память, вообще-то это я махнулся не глядя. Перочинный ножик с серебряными накладками, пять лезвий, отвертка, штопор и даже маленькие такие ножнички, сбоку выдвигаются. Но в «махнемся» свои правила, можно очень удачно поменяться, а можно ложку на вилку. Хотя с другой стороны память, конечно. Все тогда были в таком настроении, обнимались, кричали, менялись, неделю как пьяные. Вот и я поменялся. И не жалел, память на самом деле. И работает до сих пор. Лет восемь назад работала.
– А можно это мне будет, а не Петьке? Ну, потом?
– Можно. Только Петьке надо тоже что-нибудь оставить. Он ведь тоже мой правнук.
– Зачем? – морщится Вовка. – Он к тебе раз в год приезжает, а мы почти каждую неделю. Пусть дырчик в сарае берет, он технику любит. А мне папиросница, я курить буду.
Вовка трет папиросницу пальцем, возвращается на стремянку, роняет очередной самовар.