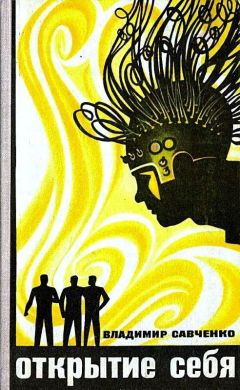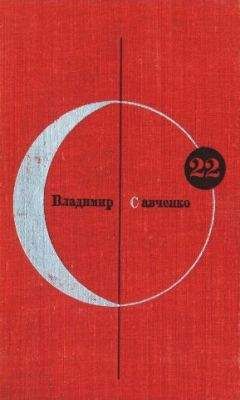Кузин попытался представить себя научающим человечество — и ему стало как—то по—грустному смешно. Он показался себе такой мошкой… «Хорошо. Допустим, я поддержу версию, что не было антиметеорита, а Тобольская вспышка произошла от… от идей Дмитрия Андреевича, иначе не скажешь! И что? Выступать с этим против решения установившегося мнения мировой науки? С чем, с показаниями кузнеца и четырьмя блокнотами? Анекдот!»
Он представил, как в компании со следователем прокуратуры дает ход делу: пишет докладные в Президиум АН, статьи, письма, выступает перед журналистами, объясняется в институте… Даже в воображении это выглядело скандально и ни с чем несообразно.
Мучительно засосало в подреберьи. Виталий Семенович, морщась, помассировал это место ладонью. «Желчный пузырь, будь он неладен. Нарушение режима. Ночью все—таки надо спать… Вот так вот, работаешь, всего отдашь себя, а тут еще это!..»
Вспомнилось вдруг, как смотрел на него в последнюю встречу следователь Нестеренко: с уважительным доверием и в то же время требовательно. «Как будто что—то лучше меня понимает и больше прав. А что вы понимаете, уважаемый Сергей Яковлевич, в ваши розовые двадцать восемь лет! О, эта кажущаяся правота молодости, когда все кажется легким — потому что сам еще и не пробовал понять!.. Ничего, молодой человек, у вас все впереди». Боль в подреберьи не утихала и грозила перекинуться в желудок.
«Да и что это за истина такая, которую можно только почувствовать, а выразить нельзя? Научные истины должны быть признаны. А чтобы их признали, их надо именно выразить — словами или графиками, уравнениями или неравенствами… иначе никак. Нет. Нет, нет и нет! С переменностью частиц могу согласиться, даже с общей идеей волнения материи могу, а с этим… с „пониманием“ — никак. Не стоит и принуждать себя».
Виталий Семенович еще раз перебрал в уме записи Калужникова — и не увидел логики в его поступках. Вот он, Кузин, человек не глупее, не хуже Калужникова — разве бросил бы из—за осенившей его идеи (какая бы она ни была!) институт, товарищей по работе и творчеству, презрел бы жизнь цивилизованного человека, подался бы бродяжничать… чтобы «проникнуться»? Что бы он этим доказал? Что этим можно доказать?! Нет в этом правоты.
В четверг у Виталия Семеновича было достаточно времени, чтобы сформулировать и отшлифовать свое мнение. И когда в пятницу утром явился следователь, то Кузин, твердо и ясно глядя в его глаза, сказал, что изучил блокноты и понимает, к какой необычной версии склоняется уважаемый Сергей Яковлевич; эта версия делает честь его воображению. Но поддержать его не может: последние идеи покойного Калужникова — очевидный для любого физика бред… Idee fixe. Как ни жаль, но надо все—таки допустить, что Дмитрий Андреевич именно свихнулся на них. Отсюда и поступки.
Нестеренко был ошеломлен, огорчен и даже пытался спорить:
— Ну, как же, Виталий Семенович!.. Ведь была вспышка. И произошла она именно там, где находился Калужников. А антиметеорит—то не падал, это же мы с вами прошлый раз ясно установили!..
— Да почему же ясно, Сергей Яковлевич? Мне вот как раз это не совсем ясно, не убежден я, что метеорит не падал… Ну, с аннигиляционной «бороздой» эксперты дали маху, согласен. Плохо опросили жителей. Однако уточнение, что «борозда» — вырытая людьми канава, не перечеркивает версию метеорита, Сергей Яковлевич, нет! Он ведь мог и не долететь до земли, а сгореть на определенной высоте над этим местом. Картина при этом останется той же: тепло— световая вспышка, остеклованность почв, радиация… Ведь и в «Заключении» речь идет не о центре, а об эпицентре вспышки, если помните. Это разные вещи. Так что здесь возможны варианты толкований.
Нестеренко глядел на Кузина во все глаза: «Ну и ну!»
— А как насчет веса, состава и скорости метеорита? Их ведь вычислили по «параметрам» канавы! — Он не хотел сдаваться без боя. — И точку неба, откуда метеор якобы прилетел, по ним же.
— Н—ну… по—видимому, и в этом вопросе несколько оплошали — правда, не наши эксперты, а сэр Кент с сотрудниками. Хотя в принципе нельзя оспорить, что антиметеорит был и массивным, и довольно плотным: с одной стороны, целое озеро испарилось, а с другой — почва оплавлена локально. — Кузин сам почувствовал шаткость своих доводов и поспешил заключить: — Это все уже второстепенные детали, они сами ничего не доказывают и не отменяют.
Минута прошла в неловком молчании.
— Ну а блокноты и показания Алютина я им все—таки перешлю, — сказал следователь. Он взял папку, встал.
— Конечно, перешлите. Ваш долг, так сказать… Но… хотите знать мое мнение? Ничего не будет.
— Почему? — угрюмо спросил Нестеренко, поглядывая на дверь: ему, по правде говоря, вовсе не хотелось знать мнение Кузина, а хотелось только скорей уйти.
— Понимаете, если бы это попало к экспертам в самом начале, когда они расследовали тобольскую вспышку, то сведения оказались бы кстати. Показания насчет канавы даже несомненно повлияли бы на выводы комиссии. А теперь нет. Упущен момент, Сергей Яковлевич, еще как упущен—то! Уже сложились определенные мнения, по этим мнениям предприняты важные действия: конференции, доклады, книги…
Виталий Семенович видел, что Нестеренко разочарован и огорчен беседой, — и то, что он нехотя расстроил этого симпатичного парня, было ему неприятно. Он старался скрасить впечатление чем мог.
— Нет, пошлите, конечно, — он тоже поднялся из—за стола. — Ну—с, Сергей Яковлевич, пожелаю вам всяческих успехов, приятно было с вами познакомиться. Если еще будут ко мне какие—либо дела, я всегда к вашим услугам.
Последнее было сказано совершенно не к месту. Виталий Семенович почувствовал это и сконфузился. Они распростились.
…Настоящий, стопроцентный трус — он потому и трус, что ему никогда не хватает духу признаться себе в своей трусости. Он придумывает объяснения.
ЭПИЛОГ. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ГИБЕЛИ КАЛУЖНИКОВА
Ужаснись, небо, и вострепещи,
земле, преславную тайну видя!..
Протопоп Аввакум, послание святым отцам
Теплый ветер колыхал траву. Калужников шагал по степи в сторону Тобола, рассеянно смотрел по сторонам. Зеленая, с седыми пятнами ковыля волнистая поверхность бесконечно распространялась на восток, на север и на юг; с запада ее ограничивали невысокие, полого сходящие на нет отроги Уральского хребта.
…Ему уже не требовались ни карандаш, ни бумага. Ему уже не требовалось думать. Просто — впитывать через глаза, уши, нос, кожу, через сокращение мышц, прикосновения ветра к щеке и волосам все, что существовало и делалось вокруг. И разница между «существовало» и «делалось» стерлась для него: покой материи был проявлением согласованного движения ее — и сам он был в этом движении. И стекающие в степь Уральские горы, и белое облако вверху, похожее на пуделя, и колыхание ковыля, и неровности почвы, ощущаемые босыми ступнями — все имело свои ритмы, все раскладывалось на гармоники ряда Фурье… хотя и он позабыл и думать о ряде Фурье и иных математических построениях. Все было проще: запомнить, впитать в себя все так, как оно есть, не истолковывая и не приписывая ничему скрытые смыслы. И потом ночью, на сеновале или в степи под звездами, все наблюденное и впитанное само складывалось в свободную — сложную и гармоническую — картину волнения.
В том и штука, что мир оказывался устроенным сразу и гениально просто, и дурацки просто! И даже никак не устроенным.
Впрочем, возникавшие ночью, в дремотном полузабытьи образы чувственного волнения оставались почти гармоничными. Почти — в этом все дело. Словами и математикой, если бы вздумалось вернуться к академическим исследованиям, он теперь мог объяснить многое: от превращений веществ до влечения или неприязни людей друг к другу, даже до социальных процессов. Но понимание мира оказывалось куда глубже и тоньше понятия о нем; оно еще маячило вдали.
…Когда в марте покинул Новодвинск, его влекло с места на место. Он ехал поездами, автобусами, летел самолетами, плыл на теплоходах — и все это было не то, не то… На второй месяц блужданий он сообразил, что никак не выберется из города, из Города Без Названия, оплетшего землю паутинной сетью коммуникаций. В этом Городе тысячи километров одолевались за часы, новости из всех мест узнавались тотчас всеми; сама планета крутилась пин—понговым шариком на телеэкранах — казалась пустячком