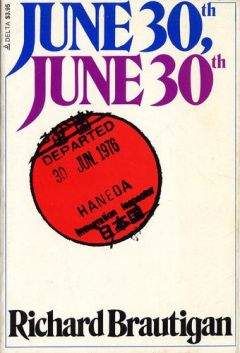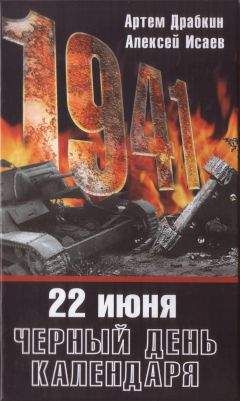На следующий день по пути на работу ее встретил Ликер и сунул в карман ее ношеного пиджака с чужого плеча - Дина вырядилась согласно полученной инструкции - бутылку самогона.
- Отдай старшему полицману.
- Сказали, тому, что.
- Отдай старшему. - И ушел.
Старший, ухмыляясь, бутылку взял, Динин обидчик скривил рожу и отвернулся, а остальные опять заржали.
В этот же день Дина принесла из бойтелагеря хорошо промасленные тряпицу и бумагу. Стараясь, чтоб не видела Софина мама, достала из шкафа, хорошо смазала, завернула в бумагу и закопала на огороде у углового столбика забора свой пистолет.
Через месяц она достаточно хорошо умела разбирать, собирать и ремонтировать практически любое стрелковое советское оружие - от пистолета до пулемета. И так же хорошо научилась незаметно приводить его в негодность.
Эрих Штейн, тот самый немецкий распорядитель в гражданском, запомнившийся Дине в первый день тем, что размеренно покрикивал на немецком языке, теперь похваливал ее за старание. Он любил остановиться возле Дины, задать малозначащий вопрос, сказать какой-то комплимент девушке или поворчать на погоду. И, Дина заметила, не он один завел такую привычку. Многие парни не упускали возможности перекинуться с ней лишней парой слов. Да и немцы, проходя мимо, часто останавливались и говорили: «Гут, фройлен, гут». Им трудно было поверить, что такая яркая, светловолосая девушка, по внешнему виду ну чистокровная, чистопородная арийка, на самом деле - еврейка. Сам Эрих Штейн оказался немецким евреем. Он руководил в бойтелагере повседневной черновой работой. Немцы его привезли с собой из Франфуркта, ибо он по немецкому реестру проходил как «полезный еврей». Желтых знаков на спине и груди не носил, жил в одном доме с немцами, от слонимских евреев старался держаться подальше и говорил только по-немецки. У него же хранились ключи от всех складов с оружием.
Роза Абрамовна несколько дней не знала, как сказать мужу о том, что Софа беременна. Наконец однажды за ужином она решилась. Выждав, пока Михаил Моисеевич подчистит в тарелке картофельное пюре со сметаной, она, подавая ему чашку чая, произнесла наигранно беззаботным голосом:
- А знаешь, Мишенька, у нашей Софы неожиданная новость.
- И какая же?.. - совершенно безмятежно поинтересовался отец.
- Софа беременна, - быстро сказала мать.
Отец поперхнулся чаем, закашлялся, покраснел и, видимо, не желая верить в то, что уже понял, задал тупейший вопрос:
- Как беременна?
И тотчас стукнул по столу ладонью так, что чашки и блюдца зазвенели.
- Ты думаешь, что говоришь, черт побери?
Роза Абрамовна поджала губы и уже с обидой хотела ответить, что у них в семье Бог сподобил только одного его думать, остальным такое счастье, видимо, не дано, да Михаил Моисеевич вдруг просительно-несчастным голосом произнес:
- Разве это правда, Розочка?
У Розы Абрамовны сжалось сердце от жалости к мужу, дочери и самой себе.
- Правда, Мишенька. - И слезы покатились из ее больших, чуть раскосых, выразительных глаз.
Михаил Моисеевич тяжело дышал, у него подскочило давление. Роза Абрамовна налила рюмку коньяка, подала мужу. Он выпил. Перевел дух.
- Ах, как не вовремя, - горько покачал он головой. - Как не вовремя.
Помолчали.
- А что Софа, как она? На каком месяце? - И Роза Абрамовна рассказала мужу историю Софы, поведанную ей дочерью.
Выслушав жену, Михаил Моисеевич выпил еще рюмку. Помолчали.
- Что делать, придется рожать. Немцы запретили евреям рожать, а придется. Ходить до конца войны беременной не будешь. Станем Софу прятать.
- А может быть, удастся ее вывезти из Слонима? - предположила жена.
- Я думаю об этом. Трудный вариант, но реальный. Самый реальный, чтоб выжить.
- Что ты хочешь сказать, Миша, я что-то не очень поняла.
- Немцы всех евреев уничтожат все равно. Рано или поздно.
- Но ты же им нужен, сами немцы ходят к тебе лечиться. Они же тебе обещали.
- Да, обещали не трогать. Я - «полезный еврей». Но - еврей. А они, понимаешь, фашисты. И все равно нас убьют. Я это понял.
- Что же делать, Мишенька?
- Давай подумаем. Пока еще время есть. Но в любом случае Софу надо прятать. Позови-ка ее сюда.
Мать сходила и вернулась с дочерью. Та зашла в комнату к отцу, опустив голову. По щекам текли слезы стыда, раскаяния, вины.
- Ну ладно, ладно, девочка моя, доченька. Еще ничего почти и не видно. Присядь рядом. Вот как ты быстро выросла, стала взрослой. А еще и мы с мамой не старые. Вот тебе восемнадцать, а маме только тридцать пять. Я ж ее малолетней замуж сманил. Соблазнил. Голову закружил. Так что по возрасту тебе пора. Вполне. И мы с мамой рады. Веришь ли, доченька? Рады! Правда, Розочка?
- Да, конечно же, рады.
- А ты, Розочка, еще и сама родить можешь. Обещала мне сына? Я потребую. Сегодня же.
- Что ты говоришь, Миша, как тебе не стыдно?
- А что? В том, что произошло с Софой, есть какой-то знак. Они нас убивают, запрещают рожать, а мы и сами не умрем, и детей еще нарожаем. Чтобы жить! Я всегда говорил, что мы, евреи, не если и не лучше никакого другого народа на свете, но и ни в чем не хуже! И мы будем жить. Родим, Софка, сына?
- Родим, папка.
- Ну, вот и хорошо, - задумчиво проговорил отец. - Присутствия духа не теряй. Кто еще знает?
- Дина, конечно.
- Еще?
- И больше никто.
- Больше никому и не надо.
Холодным осенним утром сырой туман от Щары и канала Огинского скрывал густые цепи немецких жандармов и охранной полиции, входивших в еврейские кварталы города. С винтовками наперевес, примкнутыми штыками они шли, словно в бой. Еврейские кварталы замерли в смертельной тишине ужаса. И вот началось. Убийцы вламывались в дома, выгоняли семьи на улицы. Стариков, старух, женщин, детей. Маленькие дети пытались прятаться под кровати, залезали под печи, их выгоняли ударами штыков. Взрослые прятаться или выказать неповиновение не смели - их воля была сломлена предшествовавшими неделями унижения, издевательств, страха, ожидания расправы.
О том, что немцами готовится новая расстрельная акция в отношении евреев, в городе было известно. Об этом шептались на базаре, в магазинах, в семьях. Подпольщики накануне вечером точно знали - это случится завтра, о чем сообщили друзьям, соседям, знакомым. Призывали ночью бежать из города - ведь гетто как таковое еще не создано, оградой из колючей проволоки еврейские кварталы пока не оцеплены, охраны по периметру пока тоже нет. Но, похоже, что совету очень мало кто последовал.
Сами подпольщики скрывались у знакомых, на конспиративных квартирах, в пригороде.
Тысячи людей, гонимые полицией и жандармами, шли по улицам Слонима к городской площади. Оттуда на грузовиках их отвозили за город в район деревни Чепелево, где уже были вырыты расстрельные ямы. По приказу немцев люди раздевались до нижнего белья. Начался расстрел. Крики, стенания, переходящие в нечеловеческий вой ужаса, плач детей и женщин поднялись до неба. Фашисты хотели бы убить всех сразу, но они еще этого не научились делать - шел пока только 1941 год. Они еще преуспеют в своей античеловеческой науке массовых убийств: впереди еще Освенцим. Бухенвальд, Майданек, Тростенец и другие нацистские лагеря смерти.
Ударами прикладов и пинками сапогов полицейские сгоняли людей в огромные толпы, выстроив к расстрельным ямам длинные очереди полуголых людей. Залпы следовали один за другим с минимальным интервалом. На малых детей и патронов не тратили - их кидали в яму на еще теплые окровавленные тела только что расстрелянной шеренги взрослых, а затем стреляли в их матерей и отцов. И они, мертвые, падали на барахтавшихся в яме детей. Тех, кто ждал своей очереди, немцы глумливо заставляли петь «Катюшу», наигрывая на губных гармониках. Некоторые из палачей, и это делали не только полицейские, выдергивали из рыдающей очереди к яме смерти полуголых девушек, уводили в кусты, там насиловали, а потом убивали. Несчастные люди от нечеловеческих над собой издевательств теряли рассудок. В тот день город опустел на восемь тысяч жизней.
- Хватит! - Дина это не сказала, она крикнула. Громко, истерично. Собравшиеся в подполье столярной мастерской вздрогнули, тяжело подняли на нее глаза. Все они, еще несколько дней назад энергичные, бодрые, с верой в себя и в то, что наносят фашистам серьезный ущерб, что эта их борьба с оккупантами результативна и приближает крушение государства - пожирателя людей, после жестокой кровавой расправы увидели её бессмысленной и ничтожной. Они, молодые и сильные, вдруг реально ощутили свою абсолютную незащищенность и беспомощность, потеряли веру в себя, в то, что можно противостоять беспощадной, организованной, запрограммированно действующей фашистской машине убийств.
- Хватит изображать из себя борцов-подпольщиков, сотрясателей вселенной, оставаясь на самом деле мелкими вредителями-короедами! Надо самим браться за оружие! Фашистов надо убивать, убивать, убивать! Надо уходить к партизанам. Они есть, они рядом - все знают, как они расстреляли грузовик с жировичскими полицейскими. А мы вооружены - не с пустыми руками придем. Каждый уже собрал для себя безотказный автомат. Патроны есть. Чего мы ждем?