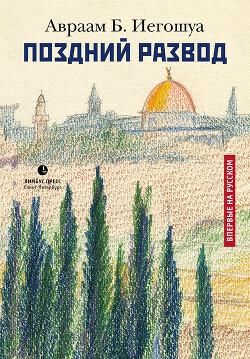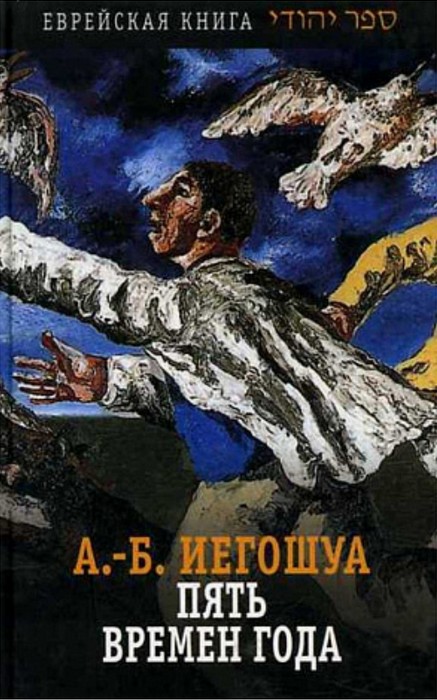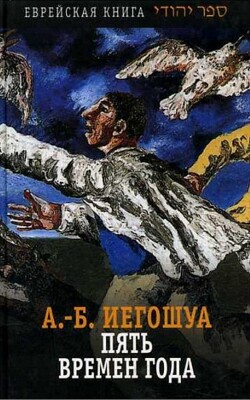– Это ты? Вернулся? Куда это ты пропал? Как похудел-то…
– Кто вы, друзья?
– Мы бродяги из Акко – те, которые разорвали твой ошейник.
– Вы тоже перебежали в Египет? Удивительно…
– Что ты мелешь? Мы в Акко.
– Акко? – Я засмеялся, поднял голову и увидел знакомую линию берега и понял свою горькую ошибку. Я вернулся к исходной точке. Рефлекс взял верх над волей. Вместо того чтобы повернуть влево, я побежал направо.
– Где малышка?
– Какая малышка?
– Которую ты взял с собой…
– Никого я не брал с собой, она просто за мной увязалась…
– Так где она? Ваш вагон вернулся из Иерусалима, но ее там не было…
– Ее взяли и привязали, какой-то старик…
– Где?
– В одном очень важном историческом месте…
– А ты знаешь, за тебя тут волновались, семейка твоя искала тебя по всему городу.
– Они переживали? Ну что ж, я рад, что хоть раз это случилось, а то обычно переживал и волновался я.
– И муниципалитет тоже искал тебя. На нас из-за тебя охотились. Несколько бродячих собак убили.
– Я прошу прощения…
– Ты не вернешься к своим?
– Нет, что мне с ними делать. Отдохну и вернусь на юг.
– Но тебя там ждут с каким-то монологом…
Я навострил уши. Если до них дошли слухи, стало быть, монолог должен будет состояться там.
– Там? Вы уверены?
– Да, купили билеты тебя послушать. Пойдем с нами…
Они были очень вежливы.
– Куда?
– Идем.
– Что это вы вдруг прониклись ко мне жалостью? Мне кажется, бездомные дворняги так себя не ведут.
– Мы знаем… Но тебя нужно вернуть им… Тебе с нами не по пути… Ты полон чувства вины, мы даже не знаем, из-за чего…
Было пять часов вечера. Дул ветер, погода менялась, и, будто провожая садящееся солнце, сгустились тучи.
Они стали подталкивать меня в сторону города, они будто конвоируют меня, они хотят вернуть меня в сумасшедший дом. В голове у меня пусто. Монолог уже скоро, а у меня нет ни одного слова, даже самого первого. Они ведут меня, словно из жалости, я слышу, как они шепчутся друг с другом, мы выходим на главную дорогу, а вот вокзал, вот толпа приезжих, мы бежим посреди дороги, нам сигналят машины, но что они могут сделать с целой стаей собак, которая движется так, будто это одна большая собака, собаки со всех окрестных районов присоединились к нам, даже лошади ржут и кошки мяукают нам вслед.
Солнце слепит, линия горизонта прячется за горами, строения и деревья кажутся вырезанными из бумаги, двумерными, как будто кто-то специально расставил их, как элементы декорации, а мимо проезжают машины, одна из них черная машина, и в ней едет твой хозяин, он хочет тебя послушать. Я поднимаю голову – действительно, это он, проходит мимо, сильно наклонившись к земле, а вдалеке еще одна машина, белая, и рядом с ней в воротах стоят хозяйка, Аси и Цви. Черная машина остановилась не доезжая ворот, рядом с железнодорожным переездом, и он быстро вылез из нее и торопливо пересекает поле, чтобы подобраться к забору около зарослей. Он снимает шляпу. Запах заговора. Я вздрагиваю. Сердце мое сжимается, и я ускоряю шаг. Солнце начинает опускаться, вдалеке оркестр настраивает инструменты. Время замерло. Солнце повисло. Старик исчезает в кустах, а я, к собственному удивлению, начинаю скулить, и собачий народ вокруг меня присоединяется ко мне. Я бросаюсь вперед, пересекаю дорогу, потом поле, прорываюсь за ним в дырку в заборе, я цепляюсь за проволоку ограды, я застреваю.
Не двинуться ни назад ни вперед. Я чую запах хозяина за оградой, и я рву свое мясо о проволоку, прорываясь вперед. Наконец я понимаю. Последний монолог – это не слово, а дело. Я и есть монолог – моя кожа и шерсть, мое мясо и моя кровь. Литература – это я. И литература ранена.
Мгновенно опускается тьма, потом быстро встает луна, и тьма рассеивается. Аси пытается освободить меня, пробирается ко мне с цепью, удивляется, что на мне нет ошейника, вокруг стоит бешеный лай, толпа беснуется, все ждут последнего монолога, появляется Цви, он несет веревку, Аси завязывает веревку на моей шее, тянет меня из кустов и тащит по земле.
Я смотрю вокруг себя. Вот и ночь. Действительно, ночь, она настала. И я пришел. Это последняя ночь. Все стоят в молчании.
Всё?
Начинать?
Это монолог?
Я не справлюсь.
И вот монолог, он звучит в ночи, он строгий и серьезный, дорожка под твоими ногами убегает назад, в небе виден свет первой звезды, там тяжело дышит большая собака. Она виляет хвостом, она высунула язык, а твоя голова в грязи и спина твоя испачкана кровью. Цепь за тобой гремит, играет свою мелодию. Медные трубы моря, флейта ветра, задрожали скрипки – все вместе звучит симфонией. Это последняя ночь из последних сил, и обратной дороги нет. Ты в ужасе, тебе страшно, ты нервничаешь, ты в ярости – это последний монолог. Лают псы, они возбуждены до предела, их голоса толкают тебя вперед и вперед. Бегут люди. Ты и я. Что они делают? Чего они хотят? Запахи сумасшествия. Вот живая изгородь, стены из кустов, здесь Цви под навесом из листьев прячет маму, я набрасываюсь на нее, облизываю ее руки, узнаю их запах, мама, мама, они его прячут, они боятся его, и все вокруг кричат; папа! папа! – кричит Аси, он бледен, он отламывает палку, Горацио, папа, папа. И я, превозмогая себя, бегу на его запах в кусты. Где он? Где он? Слышен легкий шепот воды, шланг свернулся, как змея, розовая змея на черных листьях, квакают лягушки, я лаю на шланг, мой разум будто стал щенком, который не отличает живое от неживого. Жажда жжет мне горло, я лаю на шланг, я лакаю воду, но Аси сзади яростно подстегивает меня веткой: папа, Горацио, папа, – и он тянет за шланг и отключает воду. Снова свежий и сладкий аромат, и снова проволока, проклятая дырка, я забираюсь на камни и копаю, копаю землю, вокруг разлетаются обрывки бумаги – бумага, бумага и ничего, кроме бумаги. Ведь это же его запах… Но мне кричат. На место, говорят мне, на место, все, хватит. Монолог окончен. Но Аси продолжает хлестать меня, будто я лошадь, его глаза горят, вперед, вперед, я лаю из зарослей, там куча вещей – это ее платье, ее шарф.
Я падаю на передние лапы, из меня вырывается ужасный хрип.
Герой страдает, вместе с ним плачет, выплакивает свое горе кларнет. Хватит, монолог. Я глух, я нем. Больше никаких запахов, кроме смеси козьего навоза, сладкого молока и колодезной воды. Мой глубокий голод и моя неутолимая жажда, моя душа лает, и сухой язык вылизывает кровь.