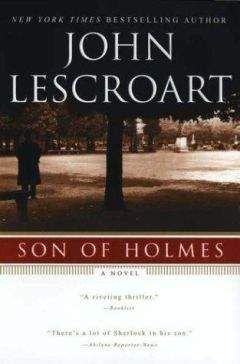моча.
На следующий день небольшая группа активистов вломилась в музей и разбила эту работу. Затем министр культуры объявил о нападении на фундаментальный принцип Свободы Самовыражения и Творчества. Все СМИ отозвались о маленьком инциденте как об акте вандализма.
Но что меня удивляет. Мне кажется, что с этим делом связана более трудная и более сложная, а также и более симптоматичная проблема – развивающаяся тенденция к дурному наименованию вещей. Да.
Серрано объяснил, что он создал эту и другие похожие работы во время первой эпидемии СПИДа. Анализы крови вдруг стали вызывать у всех беспокойство; многие крупные фирмы заставляли своих работников сдавать на анализ мочу.
Христос погружен в эти две жидкости. Образ задуман и как выпад против Римско-католической церкви, чьи доктрины, гонения на еретиков и инквизиции часто попирали принцип милосердия, который Христос олицетворял и проповедовал. Если бы Христу довелось столкнуться с таким бедствием, как СПИД, он несомненно встал бы на сторону жертв.
Допущенная в полемическом запале ошибка Серрано (эстетика его работы – это совсем другой вопрос) заключается в ее названии. Если бы он назвал работу «Моча, кровь и Христос» или же «Христос, ввергнутый в мочу и кровь», то его послание дошло бы до зрителей.
Но он назвал ее «Христос в моче». И в этом есть агрессия и грубая провокация. (Явная издевательская насмешка взывает к ответному нападению и скандалу.) Провокационное название одновременно является и богохульством, поскольку оскорбляет то, что для других священно.
Упомянутый выше епископ и назвал фотографию богохульной, однако это не значит, что мы не должны обсуждать это понятие. Нельзя позволять церкви объявлять монополию на какие-либо слова. (Все виды фанатизма начинаются с утверждения исключительной собственности на слова.) Фигуры вроде авиньонского аббата Режи де Какерси напоминают мне священнослужителей, которых Толстой с таким праведным гневом изобразил в своей последней книге – романе «Воскресение». (После ее публикации он был отлучен от Православной церкви.)
Пример Христа видят и чувствуют многие миллионы людей, не принадлежащих ни к каким конфессиям; они следуют за ним как за направляющей силой или воспринимают его как откровение о неведомых нам возможностях. Он предлагает надежду, он взывает к милосердию. Если именно эта вера – а не церковные символы и эдикты – будет полагаться священной, то она окажется избавлена от ничем не спровоцированных оскорблений. В данном случае название «Христос в моче» (а не сам образ) содержит такое оскорбление.
Почему я снова обращаюсь к этой тривиальной истории, значение которой и так сильно раздуто благодаря широкому освещению в прессе? Потому что это красноречивый пример того, как вместо разумного использования слов можно допустить колоссальный ляп, если не знаешь, как устроен мир. Серрано со своим издевательским названием забыл о распространенности и сложности той веры, о которой я говорю. Забыл? Или просто не знал?
Сегодня нас заливает коммуникационный поток, и в нем словесные игры и кривляние часто подменяют реальность бесчисленных человеческих жизней. И это ведет к парадоксу: незнание часто сопровождает информированность по части последних трендов.
На днях я видел по телевизору, как неолиберального экономиста спросили, какой вклад, по его мнению, наиболее ценен в современном мире? Вклад? Инвестиционный, конечно. Он сулит хорошую прибыль.
Сегодня Страстная пятница и уже почти полночь.
65. Хуан Муньос
(1953–2001)
Назым, я хотел бы поделиться с тобой своей скорбью. Я помню, сколько надежд и скорбей ты разделил с нами.
Телеграмма пришла в ночи,
всего три слога:
«Он умер».
Я скорблю по моему другу Хуану Муньосу, замечательному художнику, автору скульптур и инсталляций; он умер вчера на пляже в Испании в возрасте 48 лет.
Хочу спросить тебя об одной вещи, которая не дает мне покоя. После того как человек умирает естественной смертью (в отличие от противоестественной, убийства или смерти от голода), сначала наступает шок, если покойный не болел в течение долгого времени, затем огромное чувство утраты, особенно если он был молод:
Забрезжил день,
но моя комната
погружена в бесконечную ночь, —
а затем следует боль, которая обещает остаться с тобой навсегда. Однако вместе с болью тайком приходит и нечто иное, вроде шутки, но не шутка. (Хуан любил пошутить.) Нечто галлюцинаторное, как взмах платком, которым иллюзионист завершает трюк, какая-то легкость, совершенно противоположная тому, что человек чувствует. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что представляет собой эта легкость – проявление нашего легкомыслия или получение новых указаний свыше?
Через пять минут после того, как я спросил тебя об этом, я получил факс от своего сына Ива. Там было несколько строчек, которые он только что написал в память о Хуане:
Ты всегда появлялся
со смехом
и новым трюком.
Ты всегда исчезал,
оставив руки
на нашем столе.
Ты исчезал,
оставив карты
в наших руках.
Ты вновь появишься
с новым смехом,
и это будет трюк.
Я вовсе не уверен в том, что действительно видел Назыма Хикмета. Я готов поклясться, что это было, но не могу предъявить никаких доказательств. Думаю, это было в Лондоне в 1954 году. За четыре года до этого Хикмета выпустили из тюрьмы, через девять лет он умер. Он произносил речь на политическом митинге на площади Ред-Лайонз-сквер. Сказал несколько слов, потом читал стихи. Некоторые – по-английски, другие – по-турецки. Голос у него был сильный, спокойный, неповторимый, очень музыкальный. При этом казалось, что голос исходит не из горла – или, по крайней мере, не из его горла в данный момент. У него словно было спрятано радио в груди, и он включал и выключал приемник своими большими, чуть дрожащими руками. Я плохо описываю это: трудно передать его живое присутствие и искренность. В одной из поэм он рассказывает, как шесть человек в Турции слушают в начале 1940-х годов симфонию Шостаковича по радио. Трое из этих шестерых находятся, как и он сам, в тюрьме. Симфонию транслируют в прямом эфире – ее как раз в этот момент играют в Москве, за несколько тысяч километров. Когда я слушал, как он читает свои стихи на Ред-Лайонз-сквер, у меня создавалось впечатление, будто его слова тоже доносятся с другого конца света. Не потому, что их было трудно понимать (отнюдь нет), и не потому, что они