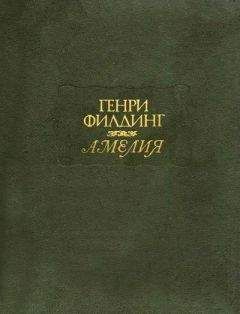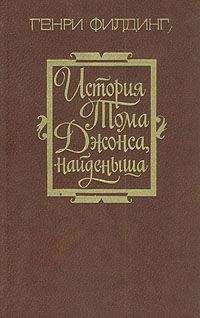Расставшись с Амелией, доктор собирался было поехать прямо к Буту, но тут же переменил намерение и решил повидать сначала полковника, поскольку счел за лучшее покончить с этим делом до освобождения Бута из-под ареста.
Случилось так, что доктор застал одновременно обоих полковников – Джеймса и Бата. Оба они встретили его чрезвычайно любезно: Джеймс был человек весьма благовоспитанный, а Бат всегда выказывал почтение к духовенству, будучи примерным христианином во всем, кроме своего пристрастия к дуэлям и клятвам.
Наш священник сидел некоторое время, не открывая цели своего визита, в надежде на скорый уход Бата, однако, убедившись в том, что рассчитывать на это не приходится (из двух полковников общество Гаррисона было более по душе как раз Бату), он сказал Джеймсу, что хотел бы поговорить с ним о мистере Буте, и полагает, что может говорить об этом в присутствии его шурина.
– Вне всякого сомнения, сударь, – подтвердил Джеймс, – поскольку у нас с вами не может быть таких секретов, о которых моему шурину не следовало бы знать.
– В таком случае, сударь, – начал доктор, – да будет вам известно, что я явился к вам от несчастнейшей на свете женщины, чьи страдания вы в немалой степени самым безжалостным образом усугубили, послав ее мужу вызов на дуэль; к счастью, письмо было вручено именно ей, но, если бы его вручили тому, для кого оно было предназначено, боюсь, мне не пришлось бы встречаться с вами по этому поводу.
– Если я и послал такое письмо мистеру Буту, сударь, – заметил Джеймс, – то, следовательно, уверяю вас, никак не рассчитывал на то, что ответом на него явится ваш визит.
– А я этого и не думаю, – возразил священник, – но у вас есть немало причин благодарить Господа за то, что ему угодно было распорядиться этим делом вопреки вашим расчетам. Не знаю, какой пустяк мог побудить вас послать этот вызов, но после того, что я имел случай узнать о вас, сударь, должен прямо вам заметить, что если бы вдобавок к вашей вине перед этим человеком вы еще и обагрили бы руки его кровью, тогда ваша душа сделалась бы чернее самого ада.
– С вашего позволения, должен вам заметить, – воскликнул полковник, – я не привык, чтобы со мной так разговаривали, и, если бы ваше одеяние не служило вам защитой, произнесенные вами слова не сошли бы вам безнаказанно. Так какой же случай, сударь, позволил вам узнать обо мне? И что именно вы узнали, сударь, такого, что, как вы смеете утверждать, рисует меня в невыгодном свете?
– Вы говорите, полковник, будто мое одеяние служит мне защитой, – ответил доктор, – в таком случае, прошу вас, умерьте свой гнев: я пришел без всякого намерения обидеть или оскорбить вас.
– Вот и прекрасно, – вмешался Бат, – такого заявления из уст духовного лица вполне достаточно; пусть доктор выскажет все, что считает необходимым.
– Ваша правда, сударь, – кротко ответил священник, – я в равной мере забочусь о благе каждого из вас, но в духовном смысле главным образом о вашем, полковник Джеймс, ибо вам известно какого рода оскорбление вы нанесли этому несчастному человеку.
– До сих пор все обстояло как раз наоборот, – возразил Джеймс, – и я был величайшим его благодетелем. Я считаю ниже своего достоинства укорять его, но вы сами вынудили меня к этому. Никак, никогда я его не оскорблял.
– Возможно, что и нет, – согласился доктор. – Но в таком случае я выражу свою мысль несколько иначе. Я обращаюсь теперь к вашей чести. Разве вы не намеревались нанести ему такое оскорбление, что само намерение зачеркивает любое благодеяние?
– Не понимаю вас, сударь, – ответил полковник. – Что, собственно, вы имеете в виду?!
– Я имею в виду, – сказал доктор, – обстоятельство настолько деликатное, что его и высказать нельзя. Послушайте, полковник, загляните себе в душу и ответьте мне, положа руку на сердце: разве вы не намеревались нанести ему величайшее оскорбление, какое только один человек может нанести другому?
– Понятия не имею, о чем вы спрашиваете, – заявил полковник.
– Вопрос довольно ясен, черт побери! – вскричал Бат. – В устах любого другого человека, он выглядел бы оскорблением и притом преднамеренным, но когда его задает духовное лицо, тут требуется столь же прямой ответ.
– Я к вашему сведению, сударь, не папист, – заметил полковник Джеймс, – и не обязан исповедоваться перед священником. Но если у вас есть что сообщить, выкладывайте начистоту, а то я никак не пойму, к чему вы клоните.
– Я, кажется, уже объяснил все достаточно ясно, – проговорил доктор, – написав вам письмо по этому поводу… и мне очень жаль, что по такому поводу я принужден был писать христианину.
– Я и в самом деле припоминаю теперь, – воскликнул полковник, – что получил чрезвычайно дерзкое письмо, смахивающее скорее на проповедь против прелюбодеяния, но я не ожидал, что отправитель признает передо мной свое авторство.
– Так вот, сударь, – заявил доктор, – перед вами храбрец, осмелившийся написать это письмо – и даже утверждать, что для него были веские и убедительные основания. Но если жестокосердие могло склонить вас отнестись с презрительным высокомерием к моим добрым намерениям, то что же, скажите на милость, могло подвигнуть вас показать это письмо – более того, отдать его мистеру Буту? Какие могли быть у вас иные побуждения, кроме желания так оскорбить соперника, чтобы он сам предоставил вам возможность отправить его на тот свет; и разве не этого вы потом злонамеренно добивались, вызвав его на дуэль?
– Я отдал Буту это письмо? – переспросил полковник.
– Да, сударь! – воскликнул доктор. – Мистер Бут сам показал мне это письмо и утверждал, что получил его от вас на маскараде.
– В таком случае он лживый негодяй, – вскричал в крайнем раздражении полковник. – У меня едва достало терпения прочитать это письмо, а потом я, видимо, выронил его из кармана.
Тут в разговор вмешался Бат и объяснил, как все это произошло на самом деле, о чем читателю уже известно. В заключение он разразился пространным панегириком по поводу литературных достоинств письма и объявил его самым красноречивым (он, возможно, хотел сказать, благочестивым) из всех когда-либо написанных писем. «И будь я проклят, – прибавил он, – если автор не вызывает у меня чувство глубочайшего почтения…»
Только теперь, вспомнив о разговоре с Бутом, доктор понял, что ошибся, так как принял одного полковника за другого. Он тотчас же признался полковнику Джеймсу в своей ошибке и сказал, что повинен в ней он сам, а не Бут.
Тогда Бат, напустив на себя выражение величайшей важности и достоинства (как он это называл), обратился к Джеймсу:
– Так выходит, что это письмо было адресовано вам? Надеюсь, вы никогда не давали повод для такого рода подозрений?
– Послушайте, дорогой мой, – воскликнул Джеймс, – я отвечаю за свои поступки только перед собой и не собираюсь давать в них отчет ни вам, ни этому джентльмену.
– Что касается меня, дорогой зять, – ответствовал Бат – то вы, конечно, правы, но я считаю, что этот джентльмен имеет основания потребовать от вас ответа; я даже считаю, что это просто его долг. И позвольте вам заметить, дорогой зять, что существует еще Тот, кто намного могущественнее его и кому вы обязаны будете дать в свое время отчет. Миссис Бут действительно очень хороша собой, у нее необычайно величавая и царственная осанка. Вы не раз говорили при мне, что она вам нравится, и если вы поссорились с ее мужем по этой причине, то, клянусь достоинством мужчины, я считаю, – вы обязаны просить у него прощения.
– Ну, знаете, дорогой мой, – воскликнул Джеймс, – я не в силах дольше это терпеть… вы в конце концов выведете меня из себя.
– Выведу вас из себя, дорогой Джеймс? – переспросил Бат, – выведу из себя! Я, дорогой мой, как вы знаете, люблю вас и обязан вам. Больше я ничего не скажу, однако, надеюсь, вам известно, что я никого не боюсь вывести из себя.
Джеймс ответил, что ему это прекрасно известно, но тут доктор, опасаясь того, что в стремлении заделать одну трещину, он содействует возникновению другой, тотчас вмешался и повернул разговор опять к Буту.
– Вы изволили сказать мне, сударь, – начал он, обратясь к Джеймсу, – что мое одеяние служит мне защитой, пусть же оно по крайней мере послужит мне защитой в тех случаях, когда я никоим образом не намеревался оскорбить вас… когда я руководствовался прежде всего вашим же благополучием, как это и было, когда я писал вам письмо. И если вы ни в малейшей мере не заслуживали подобных подозрений, то у вас нет и никакого повода негодовать. Предостережение против греховного поступка, обращенное даже к человеку невинному, никогда не может быть во вред. И позвольте вас уверить, что как бы вы ни были разгневаны против меня, у вас нет повода гневаться на несчастного Бута, который решительно ничего не ведал о моем письме и который, я в этом убежден, не только никогда не питал относительно вас никаких подозрений, но, напротив, испытывает к вам глубочайшее почтение, любовь и благодарность. Позвольте мне поэтому уладить все возникшие между вами недоразумения и помирить вас еще до того, как он узнал о вашем вызове на дуэль.